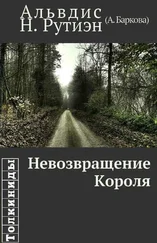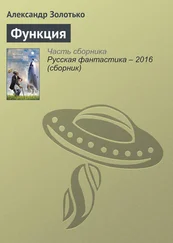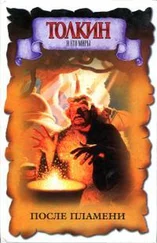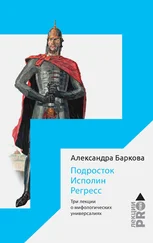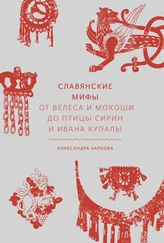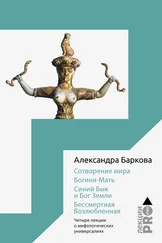“Классический славянский эпос не может быть понят... вне учета его связей с предшествующим эпическим наследием. В то же время он сам заключает в себе немалый материал для восстановления если не целостной картины, то, во всяком случае, существенных слагаемых догосударственного эпоса”, – писал Б.Н. Путилов еще тридцать лет назад [Путилов. 1971. С. 18]. Мы в настоящей работе попытаемся рассмотреть один из центральных былинных сюжетов в сравнительно-типологическом освещении, поскольку именно таким образом можно понять внутреннюю логику сюжета и законы его построения. К этому рассмотрению мы и переходим.
СИЛЬНЫЙ “МЛАДШИЙ ГЕРОЙ”
Прежде чем заниматься непосредственным анализом этого образа, следует оговорить принципиальный момент, от которого зависит всё построение дальнейших рассуждений. Если мы сосредоточим свое внимание на собственно образе “младшего героя”, то мы получим представление о его происхождении, возрасте, отношении к вождю и дружинникам – и не более. Статичное, изолированное рассмотрение “младшего героя” нисколько не прольет света на вопрос, почему, собственно, он “младший”. И потому в центре нашего исследования будут взаимоотношения главного и “младшего” героев, то есть система мотивов, в которой действующими лицами являются эти два персонажа.
Даже беглый абрис круга былин о бое Ильи с войском Калина-царя приводит к выводу, что эти сказания строятся на трех мотивах:
- удаление главного героя от битвы (его распространенный вариант: ссора героя с эпическим государем),
- бой с войском,
- гибель “младшего героя” при попустительстве главного.
(Относительно гибели уточним: в том случае, когда в роли “младшего героя” оказывается Илья Муромец, мы имеем дело с тем, что П.А. Гринцер назвал “едва-не-гибель” героя. Впрочем, и в былине о Ермаке смерть юного богатыря не устраивает большинство сказителей. Поэтому для нас собственно трагический финал истории “младшего героя” – это лишь частный случай сюжета, где он может погибнуть. Правильнее было бы при определении мотива писать “едва-не-гибель”, однако это сделает название слишком громоздким. Поэтому мы в дальнейшем будем употреблять этот термин в тех случаях, когда гибель героя возможна, но не происходит.)
Итак, возникают вопросы: 1) сколь часто эти три мотива встречаются в мировом эпосе – как устном, так и литературном; 2) по каким законам (при каких условиях) возможно их объединение в цельный сюжет; 3) почему образ “младшего героя” устойчиво связан именно с этой триадой. Ответ на эти вопросы поможет нам выявить место былины о Ермаке в мировом эпосе.
* * *
Мы начинаем наш анализ образа “младшего героя” с Ермака. Былину о нем невольно хочется назвать “падчерицей отечественного эпосоведения”. Ее анализирует, кажется, только В.Я. Пропп [Пропп. 1955. С. 331-333] – и то не как самостоятельный текст, а как эпизод былины об Илье и Калине. И всё же В.Я. Пропп – единственным из ученых – не закрывает глаза на смерть Ермака, считая ее закономерной и даже отмечая, что гибель юного героя “подробно рисуется при описании боя” [Пропп. 1955. С. 333]. Но, несмотря на это утверждение, анализа подробной обрисовки кончины юноши у В.Я. Проппа нет, видеть в Илье Муромце хотя бы невольного убийцу Ермака ученый не желает.
Совершенно игнорирует эту былину А.М. Астахова, не упоминая ее в своей книге “Русский былинный эпос на Севере” (при том, что на материале этой былины четко видны региональные отличия – былина специфически олонецкая) и не включая ее в сборник “Илья Муромец”. В комментариях к этому сборнику былине уделена всего одна фраза – А.М. Астахова отмечает устойчивость сюжета и утверждает, что роль Муромца сводится к тому, что “он вовремя удерживает увлекшегося боем молодого богатыря” [Астахова. 1958. С. 463]. Такой подход и во времена А.М. Астаховой был не нов – еще комментатор сборника Киреевского решительно не приемлет трагический финал былины: “...Вспомним, как больше всех товарищей щадит он <���Илья Муромец> всякую новую и молодую силу, как бережет и лелеет Ермака, которого, как младшего и позднейшего богатыря, творчество подводит к нему ребенком” [Кир. С. XXXV]. Близкой точки зрения придерживался и А.Н. Веселовский – в седьмом разделе своей работы “Южнорусские былины” он пишет: “Эпизод о гибели богатырей перенесся механически в соответствующее место песни о Ермаке, изнемогшем от вражьей силы” [Веселовский. С. 281-282].
Читать дальше