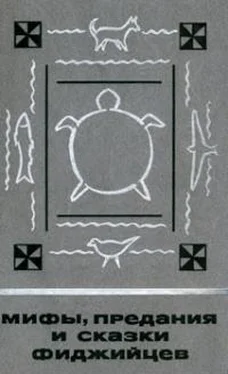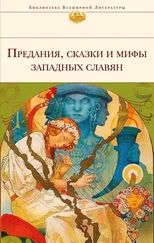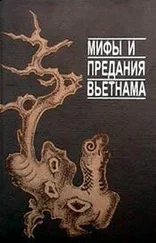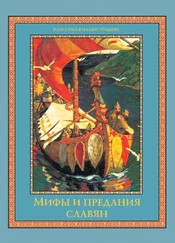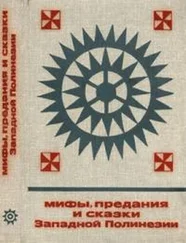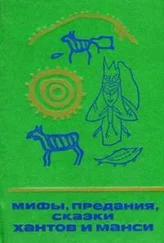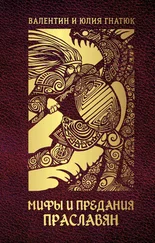"Мы, король Фиджи, вместе с прочими высокими вождями Фиджи, сим по доброй своей воле передаем нашу страну, Фиджи, Ее Британскому Величеству, Королеве Великобритании и Ирландии. Ей доверяемся мы и полагаем всецело, что будет она править Фиджи со справедливостью и с рвением, чтобы продолжали мы жить в мире и процветании" (цит. по [27, с. 5]). В Англии тех времен был очень популярен рассказ о том, что фиджийские вожди, увидев в кают-компании одного из военных кораблей, стоявших у берегов Вити-леву, бронзовое изображение королевы Виктории, решили, что отдают свои острова во власть темнокожей женщины-вождя, так похожей на их собственных женщин.
Первым, временным, губернатором Фиджи стал Г. Робинсон, а в 1875 г. его сменил А. Гордон, бывший не только политиком и администратором, но и ценителем фольклора, который он записывал и на вверенных ему островах [42]. Гордон разделил Фиджи на провинции и округа и создал систему местного управления, пытаясь сохранить при этом некоторые устои традиционного фиджийского общества.
В современном государстве Фиджи восходящая к Гордону система округов и провинций сохранена, однако сами единицы укрупнены. Независимое государство Фиджи делится на четыре округа, которые, в свою очередь, состоят из провинций (явуса), общее число которых пятнадцать. В каждой провинции выделяются районы (тикина), делящиеся на поселки (коро). Соотношение современных округов и провинций таково:
Округа и провинции в их составе
Округ— Провинция в составе округа
Центральный— Таи-леву, На-ита-сири, Рева, Серуа, На-моси
Восточный— Лау, Лома-и-вити, Кандаву, Ротума
Северный— Мбау, Мазуата, За-кау-ндрове
Западный— Мба, На-ндронга / На-воса, Ра
Фиджи оставались колонией на протяжении 96 лет. Независимость архипелага была провозглашена 10 октября 1970 г. О новейшей истории Фиджи см. [8; 13, с. 290-307]. Эта история началась более ста лет назад, и почти все это время народная культура оставалась в тени, заслоненная цивилизацией с ее более материальным видением бытия. Необходимость преемственности исконной традиции только начинает ощущаться фиджийцами, и, может быть, впереди — нелегкое возрождение забытого прошлого.
* * *
Эпоха, когда "цивилизованный наблюдатель с готовностью признает, что дикарь смотрит на вещи по-детски и живет абсурдными представлениями" [26, с. 248], сменилась более романтическим временем, когда во всех памятниках духовной культуры виделась история. В фиджийском фольклоре не только искали хронологию миграций — его членили как археологический памятник на пласты: слой первобытного тотемизма, слой анимистических представлений, начатки концепции божества [31, с. 10; 42; 60; 86, с. 117 и сл.]. Вслед за этим несколько потребительским взглядом на фольклор явилось желание изучать устную традицию "в себе и для себя".
Многие фиджийские рассказы, будь то поэтический речитатив или проза, сакрального характера (подобные рассказы на востоке Фиджи называются туку-ни, на западе — кваликвали). В традиционном фиджийском обществе туку-ни (кваликвали) передавались только во время ритуала на церемониальной площадке, у святилища. Потребность в сюжетном, развлекательном или потешном повествовании удовлетворялась рассказами иного рода (их общефиджийское название тала-ноа; кое-где на западе они называются мбири), которые могли быть уместны и у стены дома, и у очага, и на берегу после купания. Но герои туку-ни — кваликвали переходят в тала-ноа и становятся в них полноправными хозяевами, пусть лишаясь при этом мифологического ореола тайны (ср. [14,с. 120] о постоянстве персонажей в разных фиджийских жанрах). Любимыми персонажами, как это кажется теперь, были для фиджийцев герои и "свои" духи.
Центральные персонажи этой книги, фиджийские духи, между собой весьма различны; не стоит особого труда подвергнуть критике само слово "дух" в применении к тем многочисленным океанийским представлениям, которые стоят за ним. Здесь и дух-душа, и призрак, и воплощение духа, и дух природы, и божество, и "идол". Все фиджийские духи (их общее восточнофиджийское название — ниту, ср. полинезийское аиту [12, с. 332]) также делятся на духов, восходящих к живым или жившим вне эпического времени людям (на востоке они называются калоу-яло, на западе яниту-яло), и духов, предшествовавших человеку, живших еще в эпическое время (калоу-ву на востоке, яниту-ву или яниту-кора на западе). Все же основания для объединения всех этих понятий в одном слове ниту есть: духи, призраки, божества, полудухи, видения и др. противопоставлены как носители сверхъестественного естественному, и в первую очередь человеку.
Читать дальше