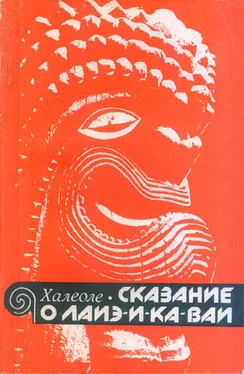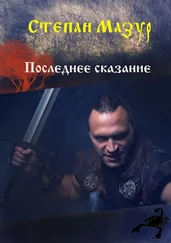Первый вождь, второй вождь,
Третий вождь, четвертый вождь,
Пятый вождь, шестой вождь,
Седьмой вождь, восьмой вождь,
Девятый вождь, десятый вождь Ку,
Ку, который стоит на небесной тропе дождя,
Первый воин, второй воин,
Третий воин, четвертый воин,
Пятый воин, шестой воин,
Седьмой воин, восьмой воин,
Девятый воин, десятый воин —
Вождь, из-за которого король тер глаза,
Юный воин с острова Мауи.
Далее следует перечисление еще девяти воинов. Подобные строки есть в известной песне «Мираж Маны», в сюжете о Лоно, очевидно, как заключительные в ряду перечислений.
Формула перечисления появляется в серии эпизодов, следующих за неудачным сватовством сестер в «Лаиэ-и-ка-ваи». Тут, как и в строках из «Ку-алии», идет нарастание эмоционального напряжения, достигающего в конце концов кульминации. Последним действует главный персонаж. Хотя всем известно, что младшая сестра может больше, чем другие, аудиторию нельзя лишать удовольствия послушать рассказ о неудачных попытках старших сестер прежде, чем начнет действовать младшая. Более того, сказитель варьирует эпизоды, не повторяет их слово в слово, что характерно для более древних источников «Сказания».
В представлении гавайца между человеком и его именем, предметом и его названием существует живая связь, которая придает простому акту перечисления эмоциональность, распространяющуюся и на сцены, с которыми он связан. У гавайца сильно развито чувство преданности тем местам, где он бывал, поэтому их названия столь часто встречаются в его речи. В «Лаиэ-и-ка-ваи» это проявляется в плачах сестер, в их воспоминаниях о родном острове. В песнях влюбленного в «Халемано» и бывшего любимца вождя, жаждущего вернуть его милость, в «Лоно-и-ка-макахики» вспоминаются те места, в которых эти люди попадали в трудные ситуации, и в таком порядке, чтобы вызвать, насколько это возможно, такие же чувства любви и верности, какие переживались в описываемых обстоятельствах. Гавайцы, к какому бы классу они ни принадлежали, в погребальной песне будут вспоминать все места, с которыми была связана жизнь умершего <���…>
Совершенство формы, обычно приписываемое божественному влиянию, можно объяснить сильно развитым чувством красоты, присущим полинезийцу. Полинезиец видит в природе знаки богов. Во всех более и менее замечательных ее проявлениях — громе, молнии, буре, «красном дожде», радуге, тумане, форме облаков, нежно пахнущих растениях, редких на Гавайях, или пении птиц — он читает знаки присутствия богов. Сказания восторженно повествуют о поразительном воздействии красоты человека на того, кто ее видит, хотя сама красота редко описывается детально, за исключением случаев, когда ее сравнивают с природой. В «Лаиэ-и-ка-ваи» лицезрение красивой героини рождает такой экстаз в сердце простого человека, что он бросает свои дела и начинает бегать по округе, крича о своем открытии. Мечтая о прекрасной Лаиэ-и-ка-ваи, юный вождь чувствует, что его сердце опалено страстью к «красному цветку Пуны», как может быть опален ветер, пролетающий над огненным вулканом. Божественный герой должен выбрать себе жену безупречной красоты, героиня выбирает возлюбленного за его физические достоинства. Итак, нетрудно убедиться, что в этих случаях любовный восторг усиливается благодаря вере в то, что красота — божественное проявление и доказывает божественную суть ее обладателя. Ранг подтверждается красотою лица и фигуры. Красота подчинена законам симметрии. Цвет тоже вызывает определенную реакцию в зависимости от своей социальной значимости. Например, радость при виде красного цвета связана с тем, что он ассоциируется с одеянием вождя [119].
3. Художественное значение аналогии
Другой важный прием, к которому охотно прибегает полинезийский сказитель, — аналогия. Ее значение двояко. С одной стороны, это живописный прием, указывающий на сходство объектов и метафорически характеризующий идею или настроение; с другой стороны — простая игра слов. В большинстве случаев задача перечисления — дать живую картину происходящего, подчеркнув при этом какую-то важную деталь; прием аналогии в первую очередь привлекает внимание слушателя к чему-то существенному. Мне вспоминается любопытный привозной цветок с перекрученным пестиком, которому местные жители с характерным для них грубоватым юмором дали имя «кишки священника». Испанский бородатый мох был назван «борода судьи Доула» в честь известного иностранца. Местные девушки плели венки из папоротника и обратили мое внимание на грациозные растения в тени, очень ими ценимые. «Это местные цветы, — сказали они, после чего не без лукавства показали на грубый светлый папоротник, горевший на солнце, — а вот чужеземцы».
Читать дальше