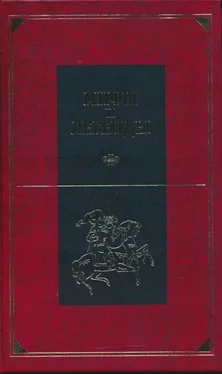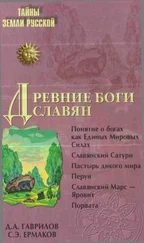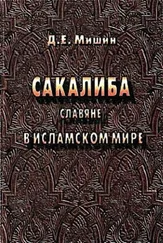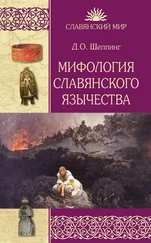В южных краях славянского племени, где теплое небо Иллирии и Сербии способствует произрастительности виноградных лоз, могло существовать божество, покровительствующее этим лозам и которое имело бы большое сходство с понятием Вакха. Таким богом вина в Дубровнях (Рагузе) был, по Аппендини, Gorae, или Zarae. Но это предположение, по самому корню слова, сомнительно и гораздо вероятнее считать Зарая за бога зари от иллирийского слова зора — zorja или за бога земного плодородия вообще — от слова зарнак, зарно — зерно. Что касается до Горая, то это, кажется, совершенно другое имя и только производя его от глагола гореть, можно таким образом сблизить его с понятием зари. Такое предположение подтверждается еще тем, что в Сербии бог винограда назывался Загреем, от имени которого могло произойти и славянское название города Аграма, Загрея, или Загреба. Но это имя, скорее, принадлежит к греческой мифологии, ибо Загреус был сыном Юпитера и Прозерпины и считался Вакхом, так же как и наследник его Дионисий, сын Семелы, сотворенный из той силы, которую Юпитер почерпнул в груди растерзанного гигантами Загрея. Случайное ли здесь сходство звуков, басня ли, перешедшая от греков к южным славянам, или, наоборот, славянское имя, вкравшееся в мифологию греков и римлян через побежденных иллирийцев, это предоставляем исследовать и решить другим, более ученым, нашим читателям.

В хорватской «Грамматике» Марка мы встречаем еще новое имя славянского Вакха — Пуста; но так как слово пуст (пост) означает у хорватов время мясоедия, или карнавала, и притом пост, или пуст, этимологически собственно ничего не значит, то и принимает Венелин, что это слово происходит от имени божества веселия. Простой народ говорит он, охотно называет известное продолжение времени именем совпадающих праздников, так, напр., Филиповки, Петровки и пр.; так точно могли и язычники назвать известные времена именами своих богов.
Если принять существование Пуста, то мы невольно вспомним и о германском Пустерике, которого найденные кумиры до сих пор необъяснимы. Это толстые вакхические фигуры из бронзы или глины, которые внутри пусты (отчего, быть может, произошло и имя Пустерика) и обыкновенно с открытым ртом и отверстием на голове, так что если в это отверстие влить кипятку, то кумир из рта пускает дым; ясно, что этот кумир изобретение хитрого жречества, обманывавшего таким явлением суеверных язычников.
Теперь мы переходим к Корсту растительного царства, т. е. к богу болезни и бесплодия растений, неурожаев и засухи и вообще всех зол земледелия. По корню своему должен это место занимать в нашем мифе Кордо, Крдо, или Кродо. В Богемии он носил имя Hladolet, что ясно намекает на бога голода (глад — hlad). Немецкие мифологи почли его за голодного Сатурна, съедающего своих детей; но это мнение кажется нам совершенно нелепым.
Подобно Корше, Кродо со временем из бога бесплодия перешел в покровителя земного плодородия и таким образом получил название Житизрата, вратителя жита или хлебов. Естественно, что при земледельческих занятиях славян бог хлебопашества должен был получить у них высокое значение, этим и объясняется поклонение кумиру Кродо у всех полабских племен, у которых, между прочим, он в особенности почитался в Гарце. Истукан Кродо стоял на высокой, лесом обросшей горе близ Гарцбурга за милю от Гослара, где до сих пор еще хранится пьедестал этого истукана. Наконец, у чехов и поляков богом хлебопашества является Крикко, которого Волмер производит от прусского Курхо, но так как сам Курхо есть одно из многочисленных форм Корши, то вероятнее почитать Крикко за понятие тождественное с Кродом как в первом, так и в последовательном его значении.
Глава VII
БОГИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Неорганическая природа, минералы и воды, имеет также, без сомнения, свою произрастительную жизнь и свою производительную силу, но эта жизнь и эта сила для нас тайна, которую едва ли разгадает когда–нибудь наука. Славяне, сознавая существование этих тайных законов производительной силы, поклонялись им как частному понятию общего закона жизни плодородия.
Читать дальше