В поэзию проникают исламские этические представления: наряду с традиционными языческими афоризмами звучат мусульманские дидактические речения, встречаются прямые цитаты из Корана. Омейядские поэты вводят в касыду стилевые компоненты, связующие ее прежде разрозненные части.
Знакомство арабов с культурой покоренных народов, особенно с культурой сасанидского Ирана, меняет образ жизни и внешний облик завоевателей, их интересы и художественные вкусы, что находит отражение и в поэзии, делает ее ярче, изысканнее, музыкальнее. Художественные средства становятся разнообразнее, в них ощущается больше фантазии и живого поэтического воображения. Вместе с тем перемещение литературных центров в резиденции халифов и их эмиров отрывает поэтов от природы пустыни и бедуинской среды, лишает их все еще обязательные описания аравийской природы былой непосредственности.
Этот процесс поэтической трансформации шел медленно и завершился лишь во второй половине VIII века. До середины VIII века арабская поэзия создается почти исключительно аравитянами или выходцами из Аравии, перебравшимися ко двору. Поэтому творчество знаменитых придворных омейядских панегиристов аль- Ахталя, аль-Фар аздана и Джар ира остается в русле древнеарабских поэтических традиций. Прославляя своих покровителей за благочестие и ревностность в защите и распространении ислама, эти поэты приписывают им все бедуинские добродетели: храбрость, великодушие, щедрость. Они нападают на врагов Омейядов, всячески подчеркивают заслуги своих племен перед правящей династией, а во взаимных нападках и оскорблениях вспоминают доисламские межплеменные распри.
Иной характер носила в это время поэзия на родине арабов, в городах и бедуинских становищах Аравии, где рядом с традиционной касыдой расцветает замечательная любовная лирика.
Предание гласит, что умением слагать стихи грустного любовного содержания особенно прославились поэты хиджазского племени узра. В небольших стихотворениях поэты «узритской школы» воспевали целомудренную любовь несчастных влюбленных, разлученных злым роком. Узритская лирика проникнута чувством тоски и обреченности, покорностью перед неумолимой судьбой. В средневековых антологиях мы находим рассказы об узритских поэтах, чья судьба обычно неотделима от судьбы их возлюбленных. Такова одна из самых популярных пар: Кайс ибн аль-Мулаввах по прозвищу Маджнун («Обезумевший от любви») и Лейла. По преданию, Кайс бежал в пустыню, потому что не смог жениться на Лейле, отданной сородичами замуж за бедуина из другого племени. Обезумевший от горя, бесцельно бродил он, общаясь лишь с дикими зверями, вспоминая Лейлу и сочиняя о своей несчастной любви грустные стихи. История трагической любви Лейлы и Маджнуна не менее популярна на Востоке, чем история Тристана и Изольды или Ромео и Джульетты в Европе.
Иной была любовная лирика горожан Хиджаза, носившая, в отлично от печальной и целомудренной узритской лирики, радостный и чувственный характер. Среди мастеров хиджазской городской лирики более других прославился медииец Омар ибн Аби Рабиа, в своих стихах воспевавший прекрасных паломниц, а также знатных жительниц Мекки и Медины, высокомерных и пресыщенных жизнью.
Омар ибн Аби Рабиа живописует внешний облик женщин своего времени, их характер и привычки, описывает любовные свидания. Он широко использует диалог, в котором можно уловить интонации знатных мединских и мекканских «дам» и «кавалеров», с их «куртуазностью», привычкой к праздности и кокетством.
Омейядские поэты создали жанр газели — короткого стихотворения о любви. Эти стихи предназначались для пения под аккомпанемент музыкальных инструментов. И поныне идут споры о том, что послужило основой для создания этого жанра, — выделившееся из касыды лирическое вступление или все более влиявшая на арабскую поэзию любовная лирика древнего Ирана, песенная культура которого после арабских завоеваний была, вместе с потоком невольников, занесена в центры арабо-мусульманской культуры.
Середина VIII века — переломный момент в политической и культурной жизни народов халифата. При Омейядах арабская империя достигла своих максимальных размеров, и при сменившей их династии Аббасидов ее границы оставались более или менее неизменными.
Переход власти в руки Аббасидов не был простым династийным переворотом, он означал рост влияния обращенной в ислам аристократии, в первую очередь иранской, отчасти оттеснившей на второй план арабскую племенную знать. Мавля (так именовались вольноотпущенники из числа обращенных в ислам бывших иноверцев) начинают играть все большую роль и в культурной жизни халифата. К этому времени они уже достаточно хорошо овладели арабским языком, чтобы активно участвовать в культурном творчестве. Их деятельность способствует привнесению в арабо-мусульманскую культуру местных национальных традиций (иранской, сирийской и др.), в результате чего складывается богатая синкретическая культура — основа расцвета арабской литературы в VIII–XII веках.
Читать дальше
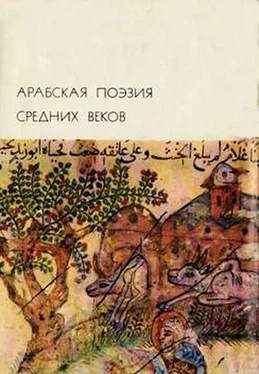

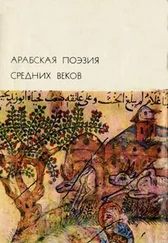



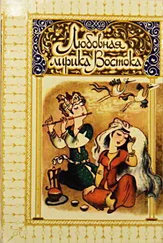



![Гай Аноним - Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант]](/books/393064/gaj-anonim-vokrug-apokalipsisa-mif-i-antimif-sred-thumb.webp)
