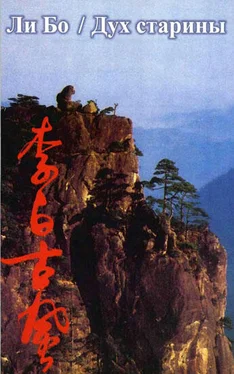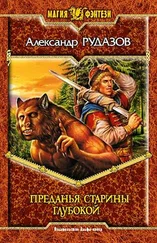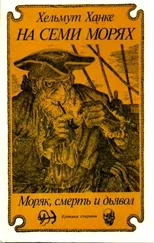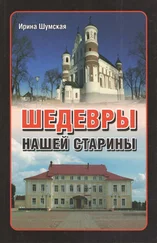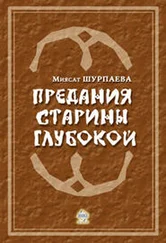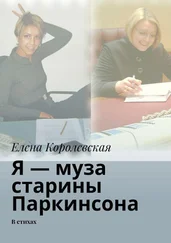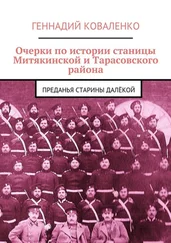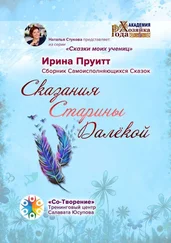Имеется в виду Цинь Шихуан, одержавший победу над остальными «воюющими царствами», влив их в единую империю, его мощь «устрашала духов», некоторые комментаторы полагают, что речь идет об одном «духе моря», тем самым соединяя первые две строки с последующими, где пересказывается предание о том, что император возжелал настичь солнце и повелел соорудить каменную переправу через море, а приглашенный им дух моря укладывал камни на дно и подгонял их кнутом.
Пэнлайский эликсир — снадобье бессмертия с волшебного острова Пэнлай, за которым Цинь Шихуан послал корабль (см. примеч. 9 к № 3). Исследователь (Чжань Ин) усматривает в этом стихотворении намек на танского императора Сюаньцзуна с его пристрастием к даосской мистике и военным авантюрам.
По перекличке начальных строк комментаторы связывают это стихотворение с восьмистишием Цао Чжи о красавице южных стран, чьи прелести увяли, не замеченные благородными мужами. Слово мэйжэнь , с которого начинается стихотворение, обозначает не только внешне красивую женщину, но и внутренне прекрасного мужчину — «благородного мужа».
Пурпурные дворцы — покои императора, в этой и следующей строках зашифрован намек на неприязнь, какую государевы фавориты испытывают к тем, кто вторгается со стороны в закрытую сферу их придворной жизни, что и произошло по отношению к самому Ли Бо.
Черные брови-мотыльки — этот образ красоты чаще воспроизводит внешний облик женщины, но может, как в данном случае, быть отнесен и к внутренней красоте «благородного мужа»; образ мотылька как самонамек появляется и в другом стихотворении этого цикла — № 22.
Сяо и Сян — две реки (в совр. пров. Хунань), сливающиеся в единое русло, в поэзии это часто встречающийся любовный символ, в данном случае указывает на южные края, куда возвращается лирическая героиня, покинув неприветливую столицу (это усиливает самонамек, поскольку Ли Бо прибыл в неприветливую столицу тоже с юга); кроме того, в верховья р. Сян в свое время был сослан опальный поэт и сановник Цюй Юань, и это тоже стоит учесть в интерпретации стихотворения.
Имеется в виду территория, занимающая части совр. провинций Хэнань, Шаньдун, Цзянси, Аньхуэй, где во времена династии Чжоу находились владения потомков дома Инь; из этой местности был родом и философ Чжуан-цзы.
Терраса Платанов (Утай) — сооружение во дворце Платанов на северо-западе уезда Линьцзы пров. Шаньдун.
Яньский камень — простой камень-самоцвет с горы Яньшань (совр. пров. Хэбэй), образное обозначение чего-то, что лишь внешне похоже на драгоценность; сюжет взят из ханьских исторических хроник, где персонаж именуется юйфу или юйжэнь (глупец, простак), а у Ли Бо — ежэнь (дикий человек, деревенщина, невежда). Существует весьма выразительный вариант первых двух строк: «Сунец получил тысячу [ лянов ] золотом, пошел в город и купил яньский камень».
Яшма Чжаоского князя — властитель царства Чжао (северо-восток Центрального Китая) периода Чжаньго послал дорогую фамильную драгоценность властителю царства Цинь с предложением обменять ее на территорию, но был обманут, однако хитроумным планом сумел вернуть яшму; этим словосочетанием обозначают истинную ценность, а выражение «вернуть совершенную яшму в Чжао» и в современном языке образно передает мысль о возвращении вещи ее законному владельцу. Эту находку именуют также «яшмой некоего Хэ».
В хрониках говорится, что Чжоу-ван, последний правитель древней династии Инь (XIV–XI вв. до н. э.), сошел с праведного Пути (Дао), и Первопредок Хуан-ди послал Феникса с предупреждением о неизбежности смены династий (см. примеч. 1 к № 4).
Князь Хуай (Хуай-ван) правил в Чу (одно из «воюющих царств» периода междоусобных войн V–III вв. до н. э.) в 328–299 гг. до н. э., здесь имеется в виду, что он перестал слушать советы своего министра великого поэта Цюй Юаня. Комментаторы усматривают в этом намек на Сюаньцзуна, отвергнувшего Ли Бо как советника.
Святой Телец — мифический зверь, по преданию, вдруг появившийся на пустыре близ столичного города накануне гибели династии Инь как знак смены династий.
Сорные травы — использовано именно то слово, что стоит в поэме Цюй Юаня «Ли сао» («Скорбь отлученного»); комментаторы воспринимают эту реалию как намек на вельмож, предавших сюзерена ( высокие врата как метоним императорского двора).
Читать дальше