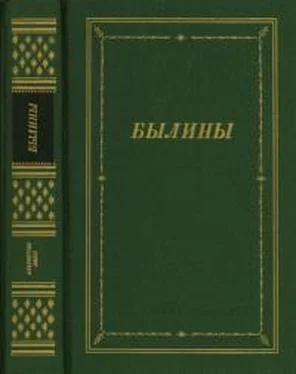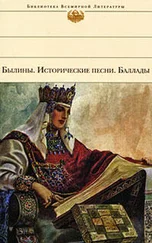Сравнительное исследование памятников мирового эпоса позволяет вынести принципиальные суждения относительно героев русских былин. Такие характерные черты богатырей, как чудесное рождение (Волх Всеславьевич) или чудесное обретение силы, здоровья (Илья Муромец), необыкновенно быстрый рост, богатырское детство (Волх, Василий Буслаевич), предуказанность подвигов, совершаемых героем (Илья Муромец, Добрыня, Козарин), владение чудесным конем (Илья Муромец, Иван Гостиный сын) или чудесными предметами (Дюк Степанович), получение даров и благ от мифологических персонажей (Садко), вещие знания, которыми владеют богатыри, а чаще — их матери, связь смерти богатыря с возникновением реки (Дунай) и другие, обнаруживают многочисленные аналогии с персонажами архаического эпоса, непосредственно выросшего из мифологии. Герои архаических сказаний выступали в качестве родоначальников и защитников своего племени от чужих племен и от существ из «иного» мира (подземного, например), бились с чудовищами, змеями, в итоге борьбы устраивали благополучную жизнь своего этноса. Фантастическое начало в их изображении решительно преобладало. Образы русских богатырей — дальнейшее развитие этой традиции в новых исторических условиях и применительно к этнической специфике. Можно предположить с достаточными основаниями, что у древних славян был героический эпос архаического типа с героями, близкими к тем, какие нам известны по якутскому, алтайскому, бурятскому эпосу. В исторических условиях распада родовых отношений, становления классового общества, создания ранних государств и борьбы с внешними врагами этот старый эпос трансформировался в эпос нового типа (в современной науке его принято называть «классическим»). [31] См. об этом Пропп В. Я. Русский героический эпос: 2-е изд., исправленное. М., 1958.
При этом существенной перестройке подверглись образы богатырей, сложился новый тип былинного богатыря, в котором, однако, сохранилось немало традиционного — в более или менее преобразованных формах. Так, от старого эпоса перешли представления о непомерной физической силе и связанных с нею возможностях богатырей, однако сила эта одновременно получила ограничения. Ближе всего к прежним мифологическим героям стоят Святогор и Волх: первый — как великан, которого не носит земля, второй — как волшебник, обладающий даром оборотничества и колдовскими способностями. Илья Муромец внешне ничем не отличается от обыкновенных людей, а в сравнении с Идолищем он выглядит совершенно заурядным. Сила его (как и других киевских богатырей) — ситуативного порядка: она проявляется в моменты наивысшего напряжения, в острых критических ситуациях, но может как бы исчезать (ср. эпизоды: Илья Муромец в плену у татар, Илья в заточении у князя и др.). Тем самым эпос по-своему подчеркивает вполне человеческую природу богатырей. Наполняются новыми значениями, новым социальным и нравственным смыслом и другие традиционные качества архаического героя: вещее знание превращается в нравственную убежденность — богатыри в своих поступках руководствуются присущим им чувством долга, осознанной ответственностью перед «своим» миром; мотив предуказанности уходит в подтекст, а на первый план выдвигаются богатырская смелость, готовность безоглядно вступить в борьбу за правое дело, уверенность в победе и дерзкое пренебрежение опасностью. «Врожденные» способности и возможности все более уступают место приобретенным, воспитанным. Существенно новыми оказываются социальные характеристики, так или иначе входящие в систему описания богатыря. Илья Муромец — «главный» в ряду киевских богатырей — по происхождению крестьянин. В эпосе он выступает носителем патриархальной народной морали в соединении с сознанием общерусских интересов: забота о спокойствии родной земли для него превыше всего, этим он и руководствуется в своем поведении; смелость его не знает пределов, но она начисто лишена чего-либо показного, суетного. Битва, кровопролитие для него — лишь необходимость; он всегда стоит за правду и из-за этого вступает в конфликт с князем. Положение Ильи Муромца в былинном Киеве не соответствует никаким реально-историческим отношениям: его нельзя отнести ни к дружинникам, ни тем более к господствующим верхам, но и трудно рассматривать «просто» как горожанина или крестьянина. Его часто называют «старым казаком»: в этих словах, которые могли прикрепиться к богатырю не ранее конца XVI — начала XVII века, своеобразно преломились представления об Илье Муромце как вольном человеке, казачьем атамане, обладающем силой, не зависимой от княжеской ли, царской ли, ханской власти.
Читать дальше