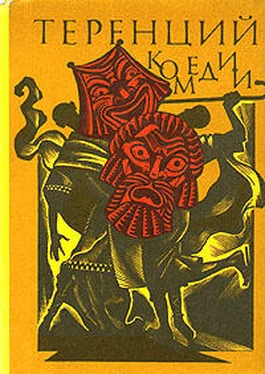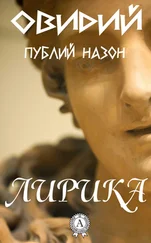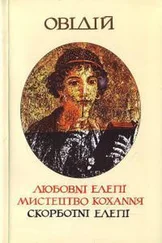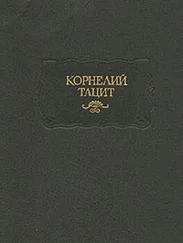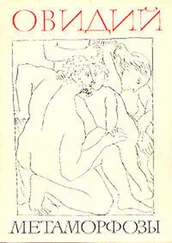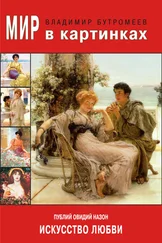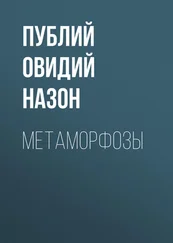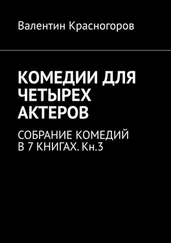Совершенно самостоятельной частью комедий Теренция надо считать также их финалы. Хотя ни один из его греческих оригиналов до нас не дошел, все, что мы знаем о творчестве Менандра, исключает возможность такого неорганичного завершения, каким отличаются, скажем, «Братья» или «Самоистязатель». В первом случае суровый Демея не только выражает неожиданное желание перевоспитаться, но и откровенно провоцирует кичащегося своей либеральностью Микиона отпустить на волю раба Сира и его жену Фригию, что совсем не входило в планы Микиона, равно как и навязанная ему женитьба на старухе соседке. В финале «Самоистязателя» ранее столь же либерально мысливший Хремет становится совершенно другим человеком, узнав, что его прекраснодушие обернулось против него самого. Точно так же сын его Клитифон, души не чаявший в своей возлюбленной гетере, с легким сердцем расстается с ней и соглашается взять в жены соседскую дочь, о которой раньше и речи не было. Наконец, «Евнух» — самая блестящая, великолепно организованная комедия Теренция, в которой все сюжетные линии (Федрия — Фаида, Фаида — воин — Памфила, Памфила — Херея) соединены так тонко и искусно, — можем ли мы признать органичной неожиданную готовность Федрии делить любовь Фаиды с его соперником Фрасоном, которому тоже находится место в благополучном финале?
Чем объяснить такие удивительные повороты?
Теренций, как видно, понимал, насколько далека была его публика от этических проблем, волновавших в свое время умы греческих философов и нашедших отражение у Менандра и Аполлодора. Римские зрители могли вдоволь посмеяться над проделками молодых людей и их рабов, поскольку это совпадало с их представлениями о распущенности легкомысленных греков; могли снисходительно отнестись к любовным увлечениям молодого человека, пока они не отвлекают его от обязанности вступить в законный брак, — допустить торжество нравов, грозящих ниспровергнуть старинные римские «доблести», они не могли. Поэтому Теренцию, если он хотел исподволь внушать публике свои идеи, воспитывать ее в духе гуманизма, приходилось идти на уступки и разрешать конфликты, завязанные в комедии, таким образом, чтобы победа оставалась за привычным здравым смыслом и житейской мудростью. Можно по-разному оценивать художественный результат этой уступчивости, — нельзя не признать в ней вполне самостоятельного отношения со стороны автора к своему материалу.
Говоря об отличии комедий Теренция от греческих образцов, следует наряду с субъективными намерениями автора учитывать и такой объективный фактор, как язык: пьеса, только переведенная на другой язык, в сущности уже другая пьеса, Элемент другой культуры. Менандр пользовался, как правило, двумя размерами: шестистопным ямбом и — в особенно напряженных или оживленных сценах — восьмистопным хореем (трохеем), никогда не перемежая их. Теренций свободно соединяет различные метрические схемы не только в пределах одной сцены, но даже внутри одного монолога, — в латинском языке, различавшем, как и греческий, гласные не только по их длительности, но и по высоте тона, такое чередование размеров могло придавать каждому отрезку текста иную интонационную окраску. Добавим к этому, что кроме шестистопного ямба Теренций употреблял семистопные и восьмистопные ямбические стихи, которые, как и трохеи, сопровождались игрой на флейте, и мы поймем, что даже внешне комедия Теренция вовсе не была похожа на греческую.
Наконец, далеко не последнюю роль в оценке писателя играет его владение родным языком — и в этом отношении Теренций признавался классическим автором, а его речь — образцом чистоты и изящества, одинаково удаленным от небрежности разговорного языка и от надутой выспренности. Нечего уже говорить о рассыпанных по его комедиям примерах остроумной игры словами, эффектных аллитерациях — исконно римском художественном приеме, о сентенциях и поговорках, вошедших в латинский язык так же, как в русский вошли стихи Грибоедова или Крылова. Одним словом, современники и потомки Теренция имели полное право считать его своим, римским поэтом, нисколько не ставя ему в вину греческое происхождение его сюжетов и образов.
Добавим ко всему сказанному соображения более общего порядка. Пушкинское «Поредели, побелели…», лермонтовское «На севере диком стоит одиноко…» несомненно факты русской поэзии, хотя и восходят соответственно к древнегреческому и немецкому оригиналам. «Антигона» Бертольта Брехта и «Мир» Петера Хакса — обработки одноименных пьес Софокла и Аристофана, но современные драматурги не колеблясь ставят под ними свое имя, коль скоро древний прототип пропущен ими через свое авторское «я». Будем ли мы предъявлять более строгие требования к писателю того времени, когда римляне считали себя прямыми наследниками не столь далекой от них по времени греческой культуры?
Читать дальше