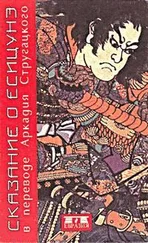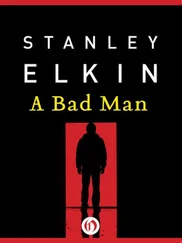– Откушай, матушка. Сама пекла, старалась, чтоб тебя порадовать.
Вяченега, окинув взором блюдо, промолвила с уважением в голосе:
– Да-а… Ну и пирог же наворотила ты, дитятко! Вовек не съесть. Можешь ведь, когда захочешь.
А между тем у Смилины воскресли её старые опасения, что супруга носит очень крупного ребёнка. Живот Свободы был не по сроку большим – гораздо больше, чем в случае со старшими дочерьми. Было трудно ходить, тяжело дышать, невозможно самой обуться, а спать жена могла только полусидя, обложившись подушками. Каждый вечер Смилина лечила светом Лалады ноющую поясницу Свободы.
– У твоей матушки Вербы так же было, – со вздохом сказала однажды Вяченега, невольно подлив масла в огонь тревоги. И добавила, положив руку на плечо дочери: – Крепись, дитятко. Всякое может быть.
Смилина носила на сердце эту тяжесть до самых родов супруги, но с нею предпочла не делиться, дабы не пугать. Но тревога обернулась радостью, когда следом за одной дочкой появилась вторая. Обе были довольно крупными, но разродилась Свобода на удивление быстро и легко. Схватки начались с первыми петухами, а уже к третьим двойняшки орали на руках у хмельной от счастья Смилины. Она не могла налюбоваться и надышаться на дочурок – уж какие крепышки, точно толстенькие грибы-боровички, выросшие рядом!
Решение кормить вместе пришло само собой. Задумано – сделано: малышки вкушали свою первую трапезу головка к головке, а над ними склонились друг к другу головы их родительниц. Плечо прижималось к плечу, четыре сердца бились рядом, и Яблонька расплакалась от умиления:
– Ох, хорошо-то как… Ничего на свете чудеснее не видала!
Будущую кошку назвали Земятой, а её сестричку-деву – Яруткой.
*
Стены домашней мастерской были полностью закрыты картинами – новым увлечением Свободы. Изучение искусства составления красок повлекло за собой пробы в живописи, и снова супруга Смилины подтвердила своё второе имя – Победа. За что бы она ни взялась – всё доводила до совершенства. Рассветы, закаты, снежные шапки, зарумяненные зарёй, склонившиеся над озером берёзки, могучие водопады и горные реки, цветущие сады и луга – вся белогорская красота смотрела со стен. Писала Свобода, на века опережая своё время: даже тогдашние самые передовые еладийские художники изображали природу весьма условно и упрощённо, а княжна добивалась правдивости и точности каждого мазка своей кисти. Её художественный дар разворачивался и креп от картины к картине, заставляя Смилину замирать перед полотнами, словно перед окнами в живое, дышащее пространство её родного края, а матушку Вяченегу – качать головой, вздыхая:
– Ну вот, очередная блажь…
Но невестку она всё равно крепко любила – за доброе сердце и ласковое, дочернее к себе отношение, хоть и считала её занятия «баловством». «Чем бы дитя ни тешилось», – говаривала она.
Владуша с Добротой зажили каждая своим домом, по-прежнему работая в кузне на Горе. Старшая дочь принесла родительницам уже трёх внучек, а младшая – пока двух. Земята по стопам Смилины не пошла, избрав службу в белогорском войске, а Ярутка уж год как свою суженую встретила – дружинницу княжескую, из младших.
Уж не стало верного Бурушки; длинную он прожил жизнь по лошадиным меркам – пятьдесят лет, и была в том, несомненно, заслуга Белогорской земли и воды из Тиши. Долго горевала Свобода, оплакивая любимого друга, и не могла решиться взять нового коня.
– Второго такого, как он, не было, нет и не будет, – говорила она. – А иного мне не надо.
Вид пустого стойла, в котором висела знакомая и родная до слёз упряжь, ввергал её в печаль, и она надолго заперла его на замок. Но страсть к седлу победила, и в стойле поселился жеребёнок той же породы, что и Бурушка, но светло-игреневой масти – рыжий с белой гривой. Его Свобода назвала Лучиком: он озарил её сердце, как солнечный луч. Сейчас это был широкогрудый, добрый великан. Ростом он даже обогнал своего предшественника на три вершка.
Состарилась Яблонька, но Белые горы держали и её дух, и телесное здравие в достойной для её лет крепости. Выбелила зима жизни её волосы, но морщин на лице у неё было мало, а в глазах сияла тёплая белогорская заря. Она и сама ещё трудилась по дому, и строго начальствовала над девушками-работницами, которые по-прежнему сменялись раз в два-три года. Ну не держались дольше, хоть убей.
Ну, а что же сама Свобода? Одного возраста они были с Яблонькой, но время для супруги Смилины словно замерло в тридцать лет: больше ей никто не дал бы. Щедро вливала в неё оружейница свет Лалады, когда соединялись они на супружеском ложе, и сияли степные глаза бархатом ночного звёздного небосвода, а на высоких скулах по-прежнему цвели маки. Птицей Свобода взлетала в седло, не помутилась острота её взора, и не дрожала рука, пуская стрелу из белогорского лука. Неудержимой кочевницей скакала она по лугам, воскрешая над цветущими травами облик своей матери Сейрам.
Читать дальше