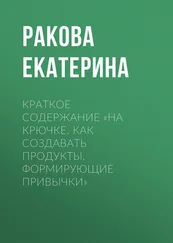Единение, хотя по первости и принудительное, с движением, скоростью, дорогой, до потери себя и времени слияние с далью, щемящее ожидание того, что скрыто, прячется в вихревой, пружинно сжатой плоти встревоженного тобой слежалого воздуха — чего еще просить и ждать, что может быть дороже? А потому — слеза на ресницах, от ветра, конечно. Но не только. Жгучая печаль и тоска по самому себе в невозвратности застывшего времени. Застывшего, но еще хранящегося в твоих глазах, в блуждающем взгляде. И твоя несостоятельность в родной хате, где еще бродит тень твоей матери, потихоньку истаивает в дымчатой туманности новых окоемов, рвется то, что лишь вчера казалось неразрывным. Единым с тобой, живым и упругим, до краев наполненным твоим духом, дыханием, кровью.
Так было. До того, когда еще много и много чего не было. И это сыграло со мной в вечную нашу игру. В не верю или: верю каждому зверю, только не самому себе. С надеждой все же поверить или проверить. Пройтись, пробежать, нырком прорваться в свою мятущуюся, больную и сегодня, словно чужую, подозрительную память.
Я не совсем представлял, что ждет меня в ее тусклых глубинах, что за зверь скрывается в них. Но там что-то было, что-то оставалось. Частица меня, щемяще манящая и почти непроявленная. Только дразняще обозначенная. Навсегда призрачная и обманная, как предсмертный свет в конце тоннеля.
Обещанный, ниспосланный всем прошедшим через этот туннель, но уворованный из моих, так и не прозревших, глаз. А давно известно: недоеденный кусок самый сладкий. И хотя сегодня я сыт, но все равно обделен, нищий детством. И это навсегда вросло и приросло ко мне, потому и гоняюсь нищенской сукровичной памятью за заячьей горбушкой своего несостоявшегося детства: не догоню, так хотя бы согреюсь.
В подсознании при всех играх и игрищах в верю и не верю зыбко дрожит, вспыхивает и гаснет: а вдруг, а если. А потому — погоня, погоня, погоня. Без остановок и съездов на обочину. По свежей и зарубцевавшейся уже зыбкой памяти прошлого, настоящего и, возможно, будущего. Хотя и с потерянным неизвестно где и когда давно уже телом.
Земля как текст, или Царицын, Сталинград, Волгоград
А можно и наоборот. Получится одно и то же, правда, в пространстве, но не во времени: что стеклом по камню, то и камнем по стеклу. Но здесь всегда на страже наша привычка перечить самим себе, делать и говорить мудро и заковыристо, как чесать левое ухо правой рукой через затылок. Или — сколько будет дважды два? А сколько вам надо? Очень уж гибкая у нас жизнь и наша приспособленность к ней.
Отсюда и угодливое поклонение перевертышам и оборотням. Подлинное имя не только человеку, а всему сущему одно, и дается только раз, следуя высшему повелению и будущему предназначению поименованного, его духу и содержанию. Недаром говорили и говорят: как корабль назовут, так он и поплывет. В подтверждение этому, опасности играть и вольно распоряжаться именем — факт почти мистический. Адмирал Нахимов был великий флотоводец. А теплоход, которому не раз меняли имя, прежде чем остановиться на последнем — «Адмирал Нахимов», не просто затонул, а унес с собой на тот свет около тысячи человек. Это можно было принять за случай, стечение печальных обстоятельств, если бы и далее все на воде, носящее имя Нахимова, не гибло и моряки не остерегались бы плавать на судах имени великого флотоводца.
Вызывает досаду, если не возмущение, множественность имен города на великой русской реке. Кстати, сегодня перезагрузчиками нашей жизни высказано пожелание переименовать его снова, в четвертый раз. Само собой, идя навстречу пожеланиям трудящихся, вернуть городу имя их же палача и людоеда — Сталина. Что же, примеров этому несть числа: Иван Грозный тоже был в нашей стране в огромном почете. Его увековечили в кино, заказных помпезных пьесах и многотомных эпопеях, востребовав из ада.
Но это так, попутно об истории. А по существу, где-то среди двухмиллионного города приютилась скромная, почти никому не известная речушка Царица, додающая капельку своей неприметности великой русской реке. Эта тихая речушка дала имя поселению на своем берегу, которое позже услужливо и льстиво преобразовалось в псевдовеличественное Сталинград. А потом уже и вовсе в серое, лишенное плоти — Волгоград.
Теряют лицо и мозги, сбиваются с пути не только люди — города и страны, молчу уже о правителях. В двадцатом или девятнадцатом веке место им если уж не за решеткой, то точно в психушках. Но вопреки всему этому я люблю этот безразмерный — сто километров из конца в конец — двухмиллионник на самой большой в Европе, как нам вводили в уши, реке. Есть в нем что-то роднящее с нашим Минском-Менском-Менеском. Хотя бы та же близость судеб речек Царицы и Немиги. Одну забыли, другую изувечили. Заковали в тюремные бетонные стены, забрали тюремными решетками. Над рекой Свислочь, как и над Волгой, сотворили насилие — отдали на откуп и совокупление толстым кошелькам, наладившим похороны и тризну истории некогда зарожденного здесь города, будущей нашей столицы.
Читать дальше



![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)