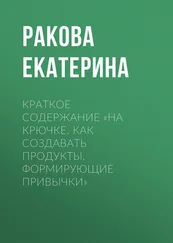Виктор Козько - На крючке
Здесь есть возможность читать онлайн «Виктор Козько - На крючке» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 0101, Жанр: Старинная литература, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:На крючке
- Автор:
- Жанр:
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
На крючке: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «На крючке»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
На крючке — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «На крючке», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Но что-то очень долго не сходится. Мое золото уже явило себя. Вышло, явило свой лик, чтобы указать мне древнее русло реки, уже сухое, безводное. Оно проявляется лишь в большое половодье, которым некогда обманулся мудрый грек Геродот. Принял весенний разлив Припяти за море. И по этому былому разливанному морю в ливневые дождливые весны гуляют, хороводятся красноперки. Именно они притягивают и освобождают из глубины наше золото. Они сами золото, его предшественники и весталки. Я черпаю его горстями. Умываюсь и согреваюсь им. Сберегаю для того, кого еще не знаю, но уже предчувствую.
Я лежу при долине на вересковом взлобке, когда-то донном, а сейчас сухом русле древней реки, в тени нависшего над песчаной гривой векового дуба. Подсознательно чувствую, что это мой дуб. Когда-то под ним избывали сенокосную истому, рыбацкую усталь мой дед и прадед. Их борть на дубе еще и сегодня служит пчелам. А на вспаханной и обрубленной молнией вершине дерева-старожила — огромное гнездо аиста, буслянка. Из нее, сигнально свесив красные клювы, смотрят на меня, как из дали веков, в четыре древних глаза два аиста — отец и мать — и двое белоголовых аистят. Не исключено, один из них — я. Вот только который. У моего бока, возле сердца, режется, просится на волю из вечной здесь грибницы зародыш боровика. Это зародыш меня. Это я из вечности прорастаю здесь грибом.
Словно занимая меня и откликаясь мне, старинное русло золотыми и серебряными всплесками подмигивает небу, глазастому солнцу. Вода в новоявленнной старице прихвачена солнечным жаром, горит. Вправду горит, пылает донно, куда достигает мой глаз, и верхово, насколько мой глаз способен ухватить, угнаться за солнечным лучом. О том, что наши реки огненные, я тоже знаю давно. Это не ново. Достаточно вспомнить лишь одно из пяти имен нашей Припяти — Горынь.
Таких Горыней у нас тьма. Название, может, идущее даже от Змея Горыныча с вытекающими отсюда последствиями, отнюдь не только мифическими, а как говорится, имевшими место быть. Я сам в детстве не раз добывал и освобождал огонь из Случи. Она тогда меняла русло. Как говорили мои земляки, Западенщина — Западная Беларусь, принадлежавшая раньше панской Польше, — обрезала нашу землю. Речка круто повернула с запада на восток, подмяла мою стежку, срезала грудок, заросший лозами и ракитником. Покинула в непроточности прежнее русло, образовав там заводь — соединяющуюся с рекой канаву. Мне нравилось плескаться в теплой воде той канавы. А однажды я вогнал в топкое дно ее добрый кол, оперся на него. И просто так — тогда я еще не курил, но спички, выбираясь на реку и в лес, по деревенской заведенке, всегда были в кармане — по наитию чиркнул спичкой. Бросил ее в воду себе под ноги. Боже, как тут вспыхнуло, как взвилось пламя. Я бежал из канавы, перегоняя самого себя. Хотя позже не раз возвращался туда и снова и снова добывал огонь.
Теперь не такой ли огонь сотворяла рыба? Красноперка, только-только отнерестившаяся или еще продолжавшая нереститься, полнить памятью жизни старое русло реки. Длить на миги и мгновения его, а это значит и мою жизнь, идущую в зачет вечности.
Красноперка, судя по ее подвижности и верткости, совсем невеличкая. Но и я занимаю в отведенном мне пространстве не так уж много места. Вообще все мы на Беларуси неброские, склонны ужиматься, не отсвечивая и никому не мозоля глаза.
Я скрытно лежу на вереске под дубом. Наблюдаю, оберегаю и сторожу жизнь, зарождающуюся у меня на глазах, слежу за мигающим лётом отлитых из серебра и золота времени пуль, неспособных никого убить. Предназначенных только возрождать.
Плач косатки над водами Уссури
Он непреходяще звучал во мне. Такое не с каждым ли даже вопреки всему происходит. Что-то неожиданно тронет душу, и ты долго носишь эту неожиданность в себе: неразгаданный звук, всхлип сонной птицы, застывшую на щеке каплю летнего дождя. Досадуешь, но постепенно избываешь и сбываешь. Звук глохнет в суетности мыслей, вскрик птицы и души подменяются и тонут в будничности и серости собственного существования, а тревожащая и обещающая капелька дождя на щеке высыхает сама, хотя не всегда бесследно. Знаковая, небесная помета иногда напоминает о себе до конца дня, а может, и до утреннего умывания. Но и следок все же чувствуется. Мигает и щемит в подсознании просверками светляков о былом крепком дереве.
С таким упокоенным воспоминанием, следком, плачем косатки над водами чужой реки долгие годы жил и я. До этой вот поры, когда уже давно превратилась в прах и отошла младенческая, подростковая и даже зрелая решимость из края в край познать всю землю, своими ногами, собственными глазами и слухом. Вобрать, поместить в себе весь белый свет, в котором почетное место отведено той же реке Уссури, уссурийской дальневосточной тайге, течение и шелест которых пришли ко мне книжно, через голоса и шаги Пржевальского, Дерсу Узалы, геолога и писателя-фантаста Ивана Ефремова. И само собой — призывностью рыка солнечно-полосатого хищного таежного тигра, застойной неповоротливостью в тиши своего омута пятипудового тайменя. Способен ли противостоять этому не видевший еще белого света полешучок, никогда далеко не отходивший от родного порога и болота, но уже имеющий что-то в голове кроме мякины и опилок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «На крючке»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «На крючке» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «На крючке» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.



![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)