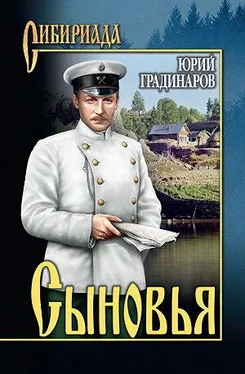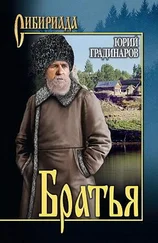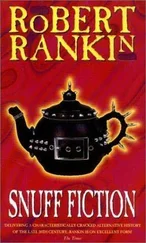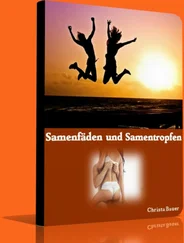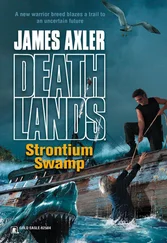Гаврила Петрович перекрестился:
– Довёз я его до Дудинского и больше не видел. Но понял, мужик он скрытный.
Александр Киприянович молчал. Глаза полнились слезами.
– Киприяныч, неужто история такая слезливая?
– Слезливая, дядя Гаврила! Это часы отца!
Гаврила Петрович опешил: «Сколько лет ходил мимо Потаповского с этими часами в кармане и не знал их истинного владельца».
– Сейчас приду в Дудинское. Может, он там до сих пор батрачит. Я с него душу вытрясу! – закричал Гаврила Петрович.
– Нет его там! Дядя Петя давно его в Минусинск спровадил. От греха подальше. Он теперь приказчиком в мучном лабазе. По-прежнему как и вы, у Петра Михайловича в услужении.
– Я никому никогда не служил, дорогой Сашок! Я служу делу, какое мне по нраву. Часы возьми! Как память об отце!
– А чтобы шкипер без часов не остался, обещаю вернуть ваши английские, если они живы. Я с Акимом сам дознание проведу. Дяде – здоровья! Пусть живёт, пока не услышит моё обвинение.
Гудок позвал шкипера на судно.
*
Александр Киприянович выпил ещё рюмку. Чувствовал себя растоптанным людьми, которые не стоят и его мизинца ни по силе, ни по уму. «Почему же жизнь так несправедлива, так жестока ко мне? – задавал он себе вопрос, с остервенением гнул пятаки и бросал их на стол. – Неужели из-за этих денег. Я сам вырос на зависти и от неё страдаю».
Сотников достал из кармана часы, открыл крышку и поставил бой. На душу легло умиротворение. Он глядел на хронометр и как бы спрашивал у невидимого отца:
– Ответь, тятя любимый. Чем я не угодил Богу? За что он наполнил моё сердце жестокостью? Почему все ожесточились против меня?
Перевёл взгляд на икону Николая Чудотворца и, увидел в нём живого отца, затвердил:
– Лишь Стратоник да Степан Петрович пытались наставить. Теперь Юрлов приказал долго жить, а Стратоник уехал в верховье Енисея. Везде царствует насилие. А оно обернулось против меня. Я стал страшилищем для людей. Пугалом для низовья. Завтра ухожу к твоему убийце. Прошу, не осуждай меня своей добротой. Жестокость твоего брата, его алчность сгубили и тебя, и твою доброту во мне. Мною правит месть. Месть людям. А ты многое в жизни прощал им. Но они не простили тебя.
Он перекрестился и захлопнул крышку отцовских часов.
Утром Александр Киприянович был на пристани. После тяжёлой ночи гудела голова, чувствовалась тяжесть в теле. Не от выпитого вина, а от душевного битья, которому подвергался он за последние пять лет. Взял билет в каюту первого класса, оставил там саквояж, позавтракал в ресторане и поднялся на верхнюю палубу. Сел под зонтиком и наблюдал проплывающие зелёные берега. Прохладный ветерок шевелил редеющие кудряшки, прогоняя ночную усталость, и наполнял тело бодростью. Он поднялся с кресла, зашёл в рубку и попросил у рулевого бинокль.
– Дайте на минутку! Посмотрю на тот обрыв. Там лежат мои отец и мать.
Он долго смотрел на берег, где виднелись три выбеленных солнцем креста. Опустил бинокль. Перекрестился. И попросил: «Благословите на кару Божью!»
Надрывалась паровая машина, захватывало воду гребное колесо. Пароход упрямо пробирался против течения, как Александр Киприянович вопреки мудрости жизни.
Через трое суток он прибыл в Минусинск. Пристань переполнена людьми и подводами. Выждал, пока рассеются пассажиры и встречающие, незаметным сошёл на берег. Сегодня ему хотелось быть невидимым для людей. На извозчике прикатил в двухэтажную рубленую гостиницу. Завтракать не стал: волнение подступало к горлу. Перво-наперво пошёл посмотреть мучной лабаз дяди. У его ворот четыре подводы. В проём тяжко входили грузители с кулями на спине, а оттуда возвращались с белыми от муки затылками. Один стоял на подводе. Он легко забрасывал кули на спины чуть пригнувшихся мужиков. Подводы менялись одна за другой. У лабаза постоянно вертелись люди. «Надо ждать вечера», – решил Александр и примостился у заплота покурить. До обеда насчитал десять телег, разгрузившихся в Акимов балаган. «Значит, и после обеда будет не менее», – прикинул он. Затем сходил пообедал и снова засел у заплота. Выжидал, когда закончится вереница подвод. Солнце клонилось к закату, удлиняя тени. «Слава Богу, солнце скрылось. Хоть в теньке посидеть. А то из-за этого Акима потом изойдёшь, – думал Сотников, вытирая лоб и шею. – И мушва надоела, хуже наших комаров».
К вечеру, когда последняя порожняя подвода и стайка грузителей покинули балаган, Александр Киприянович, оглядываясь, вошёл в дверь. Склад наполовину забит штабелями кулей с мукой. В маленькое единственное окошко, посаженное на фронтоне, почти у самого потолка, пробивался угасающий дневной свет. Он падал на стол, за которым сидел человек и перебирал бумаги. Рядом стояла недопитая бутылка водки и горящая керосиновая лампа. Сотников закрыл дверь на засов. На скрежет запора человек повернул голову:
Читать дальше