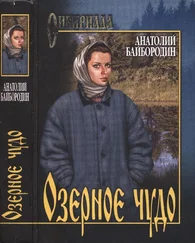Легок на помине Ванюшка, много лет ему жить, потому что разговор о нем, о его брюках еще не уплыл в небо, где копится даже самая пустяковая болтовня; разговор еще витал над ребятишками, как и картинка про хвостатых и рогатых удильщиков, которую Пашка Семкин, вроде бы, видил своими глазами.
Когда Ванюшка подошел ближе, ребятишки стали смотреть на брюки со жгучей завистью, и так они напористо смотрели, словно задумали провертеть на гачах множество дымящихся дырок, испортить обновку, чтобы не тревожила глаза.
— Ух ты-ы, какие ловкатские штаны,— поцокал языком Базырка Будаев, младший брат Радны, который до этого поочередно скреб то свой медно-желтый, круглый живот, то — песок, вырывая в нем сырую яму, чтобы залечь в нее, а сверху засыпаться по самую шею.
— Новехоньки.! — выдохнул Сохатый, подбирая распущенные в удивлении губы. — Не обноски.
— Ишь ты, как жало, порезаться можно, — первым очнулся Радна и, сузив навечно прищуренные глаза, провел вздрагивающим пальцем по стрелке, прочертившей гачу; провел, как по лезвию острого топора.
— Но-ка, но-ка, дай-ка я,— полез к брюкам Базырка.
— Нос сперва утри! — отпихнул его локтем Радна.
— Сам-то! — Базырка надул вспухшие, трубкой вытянутые губы, чуть ли не подпирающие мелкий бурятский нос, хотел было захныкать, а когда не получилось, стал дразнить брата.— Раднашка, Раднашка, пузо —деревяшка!.. Раднашка…
Радна не вытерпел, замахнулся не то чтобы навернуть вредного брата, а хотя бы отшугнуть от себя, и Базырка, не пытая больше ветреной судьбы, побурчал себе под нос и угомонился.
Ребятишки тем временем вовсю щупали брюки; братья Сёмкины совали прыткие руки в карманы и шуровали там почем зря, щекотали Ванюшкины ноги, а Сохатый даже умудрился разок ущипнуть. Радна похрустел неразмятым ремешком и щелкнул ногтем по медной бляшке, такой желто лучистой, что больно было глядеть. И лишь Маркен полеживал в сторонке, едва приметно косясь на ребячий гомон безразличными глазами, в которых всё же нет-нет да и коротко взблескивала зависть и вспыхивали зеленоватые рысьи огоньки, но тут же гасли, прятались под мягко опущенными ресницами. Даже у него, самого старшего среди этих, как он их обзывал, голопузых гальянов, еще и в помине не было таких брюк, и, как всем, приходилось зиму и лето носиться в тех же пузырчатых шкерах, поддергивая их непрестанно или завязывая новым узлом быстро слабеющую резинку. И жили-то Шлыковы побогаче многих в Сосново-Озёрске, а уж Краснобаевым-то гоняться да гоняться за ними, но брюк Маркену все равно не брали. «Лишняя роскочь, баловство, — считал Маркенов отец, тракторист Дмитрий Шлыков. — Еще не зарабил».
— Чего лыбишься, как сайка на прилавке, Жирняк, — скосоротился Маркен, как бы отбрасывая от себя смущенный, извиняющийся Ванюшкин взгляд.— Гляди, довыбражаешься, выбражуля.
— Выбражуля номер пять, разреши по морде дать, — подхватил тут же Сохатый.
— Стырил, поди, — прикинул Маркен.
— Никого не стырил, — хмурым и уже подрагивающим в недобром предчувствии, слезливым голосом отозвался Ванюшка. — Братка из города привез.
— Обновить надо…
Ванюшка подошел к воде. В реденьком камыше плавилась мелкая сорожка, выплескиваясь на воздух серебристыми струйками, пуская от себя волнующие глаз рыбака азартные круги; и вода на отмели бурлила, пучилась и сорно мутнела. Сорожка прибилась в берега покормиться мошкой, а и на нее саму, игривую, — сразу же увидел Ванюшка — уже распазилась широкая зубастая пасть: нет-нет да и в погоне за сорожкой хлестала по воде мощным хвостом, добела взбурунивала муть, разрезала темной молнией щука-шардошка. Долго потом качался потревоженный камыш, немой свидетель быстрой расправы, долго и пораженно мотал из стороны в сторону бурыми, долгими головками, потом таился, обмирая в испуге, но тут же опять знобко передергивался и нервно дрожал. А и на дикую шардошку, пугающую и пожирающую мелочь, налажена управа — уже заведены рыбаками крепко-ячеистые крылья бродника, для нее, вольной и яростной, отпахнулось тугое горло мотни, в охоте за ней, мористее бродничавших, какой-то мужик проверял сети, которые, видимо, ставил на ночь, когда рыба уходит почивать в тайные, глубокие воды, в свои сумрачные, травянистые зыбки. Но сейчас миражом стояла такая сонная божья благость, что Ванюшке, глядящему, как выпрыгивает из воды сорожка, с трудом верилось, что среди камышей и подводной травы разгорались смертельные догоняшки, что где-то с жестким щелком откидывалась челюсть и жалкая мелочь, успев, не успев поживиться мошкой, летела прямо в ненаедную щучью глотку, как не поверилось бы —тем и счастливы в детстве — что и в мире земном идет путаная, яростно-торопливая человечья жизнь, и, похожая на щучью, только незримая и непостижимая, неустанно работает жующая и глотающая челюсть, и что человек, может быть, не последний в ряду охоты; может быть, и на него, уже гоняющегося не столько за прокормом, сколько за мертвой, на пагубу измысленной, не имеющей ни конца, ни края, роскошью, распахнуты крылья невидимо заведенного по земле, приманчивого бродника, завлекая чем дальше от детства, тем все глубже и глубже в мешок мотни, выбраться из которой уже редко кому под силу. Как щука слепнет в жадной погоне за сорожьей мелочью и угадывает прямехонько в мотню, так порой на и земле, в человечьей жизни. Но щуку-зубатку можно понять и простить — голод не тетка, да и больше живота ей не съесть, — так уж у всякой твари земной в заводе, но человек-то за что страдает и бьется, до срока стареет и умирает, миллионами убивает друг друга, если прокорма ему на земле отпущено куда сверх живота?! Или уж опять повинна все та же изнуряющая, убивающая самого человека и все живое вокруг безумная и бездушная погоня за мертвой роскошью? Господь знает, нам ли себя судить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)





![Анатолий Афанасьев - Мелодия на два голоса [сборник]](/books/67136/anatolij-afanasev-melodiya-na-dva-golosa-sbornik-thumb.webp)