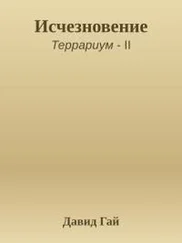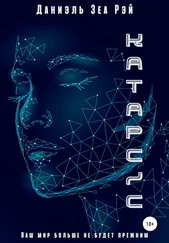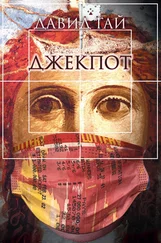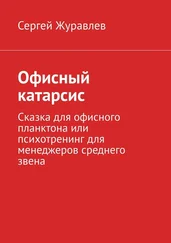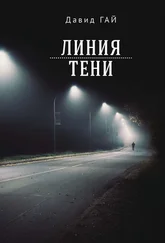Но две чаши весов недолго остаются в равновесии. Библейские заповеди и сентенции философов, призывы проповедников и рассуждения моралистов – все ложится на вторую чашу, все взывает к правде и клеймит лживую очевидность недобрых сердец, как тяжкий грех.
Однако психологи, социологи и биологи, изучающие природу человека всеми новейшими методами, единогласно реабилитируют и такую сторону нашего естества, как инстинктивную привычку ко лжи. Любой из нас склонен утаивать правду, привирать, мухлевать, пускать пыль в глаза или плести словеса сладкой лжи ради.
Зал оживился, задвигался, послышались негромкие голоса. Затетёха громко отозвалась на произнесенное: “Верно! Все мы одинаковые…” Розовощекий лектор с крестом поднял руку, призывая к тишине.
– Конечно, в нашем конкретном случае – Славишия, год 203… – можно много рассуждать о росте мошенничества во всех сферах жизни, о неправильно построенной экономике, о всепоглощающей коррупции и бедности. Но попробуем остановиться там, где экономика еще не начиналась и, посматривая друг другу в глаза, поищем ответы на вопросы: почему люди так охотно обманывают других? Почему нам так трудно уличать обманщиков? И почему на этом немало лет строилась пропаганда?
В Заокеании, в стенах одного из университетов, был проведен любопытный эксперимент с участием 121 добровольца, – шпарил розовощекий по-залаженному. – Их просили пару минут поговорить с незнакомым им человеком и произвести на него самое лучшее впечатление. Все – и студенты, и студентки – справились с заданием. Они показались своим визави людьми милыми и толковыми. Вот только за счет чего это было достигнуто? Как создаются репутации? Ответ оказался прост. Бесстыдной ложью! Вторая часть эксперимента заключалась в “работе над успехами”. Каждый студент в тишине и покое просматривал видеозапись и пунктуально – как на духу – отмечал, сколько раз он приврал, прихвастнул, подпустил пыли в глаза, убеждая незнакомца в своем высшем предназначении. И если отвечавшие на этот раз были честны перед собой, то 60 процентов из них – вольно или невольно – хитрили, стараясь завоевать внимание собеседника. Лгали ему. Некоторые даже успевали за пару отведенных минут соврать несколько раз. Одни, поддакивая репликам имярека, тепло отзывались о человеке, которого якобы знали, но о котором не слышали никогда вообще. Другие утаивали свои слабости, пытаясь представить себя лучше, чем есть на самом деле. А один, не моргнув глазом, сообщил, что он – “звезда местной рок-группы”.
В другом таком же опыте, длившемся уже десять минут, некоторым его участникам перед началом беседы сообщили, что они больше никогда не увидят этого человека. Теперь процент говоривших неправду достиг 78. В то же время был отмечен и такой факт: если студентки знали, что снова увидятся с незнакомцем, они чаще врали ему.
Что говорит нам подобная серия испытаний на честность? Конечно, о том, что грешен наш мир, ох, грешен. Ложь – и без всяких опросов ясно – широко распространена, она встречается на каждом шагу. Лгут политики и коммерсанты, журналисты, врачи, родители, дети. В то же время из этих и других наблюдений явствует, что ложь имеет определенное социальное назначение, играет свою роль в обществе. Особенно тонко это чувствуют женщины. Недаром они чаще обманывали первых встречных, если думали, что еще увидят их. Выходит, в основу длительных отношений надо, как жертву, закладывать ложь? Она скрепляет связи между людьми? Когда же мы начинаем лгать себе и другим?
Наш язык – настоящее орудие лжи. Слова просто идеально приспособлены для того, чтобы вуалировать действительность, талантливо называть черное белым и наоборот. Искусно ловча ими, можно представлять все происходящее в выгодном для себя свете. Лингвистические ухищрения давно стали не только жизненной нормой, но и фундаментом политики, в чем легко убедиться хотя бы на примере Славишии и ее телеканалов, где до самого недавнего времени господствовали пропагандоны , как их часто называли. Для любого события, любого явления находилась пара подходящих названий-антонимов. Какие-нибудь “террорист” и “борец за свободу” всякий раз оказывались двумя ликами одной и той же истины, “победа” в скоротечной войне легко ассоциировалась с “поражением”, да и кто должен был их отличать? Все-таки искусный выбор слов многое решал, и даже наглая ложь часто выглядела неуязвимой.
Читать дальше


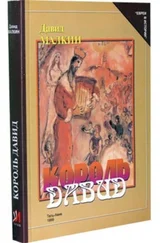

![Виталий Храмов - Катарсис. Наследие [litres]](/books/427900/vitalij-hramov-katarsis-nasledie-litres-thumb.webp)