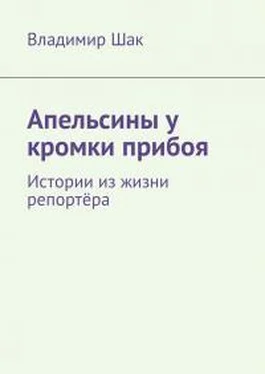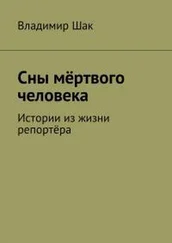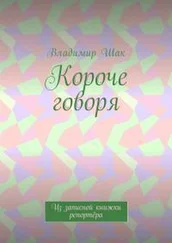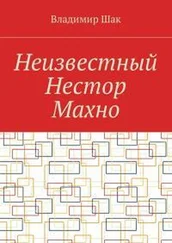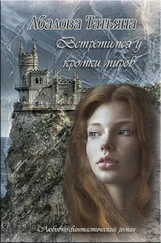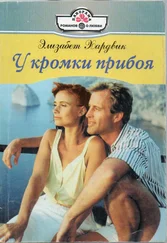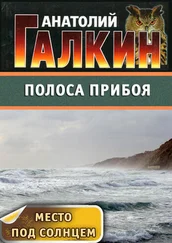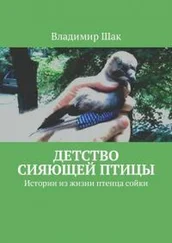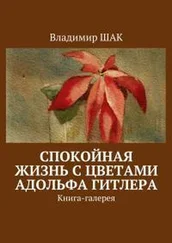Итак — Гурзуф, не любить который невозможно.
Это как бывает с человеком, долго пьющим не очень качественную воду, скажем, из-под крана, а потом вдруг оказывающимся перед сине-прозрачным родником, в котором отражаются небеса и искрится солнышко. Человек припадает к источнику и с каждым глотком живительной влаги ощущает, что и усталость куда-то уходит, и дурное настроение. Очищение наступает. Или просветление.
Вода родниковая такую силу имеет. Да и сам родник, пульсирующий в такт биению сердца матушки-земли нашей.
Вот примерно такие же чувства переживаю и я, встречаясь с Гурзуфом. Меня удивляет в нем все: узкие улочки — на некоторых я вытягиваю в стороны руки и почти касаюсь стен домов; горы, норовящие сбросить городок в море, ну и, естественно, само море. Особенно привлекательно оно осенью, когда с шипением накидывается на скалистый берег и, разбиваясь о скалы, отбегает прочь, чтобы через минуту с новой силой обрушиться на своего извечного врага. Пусть не победить его, но и не сдаться ему на милость.
Но есть в Гурзуфе несколько особенных мест, оказывающих на меня такое же влияние, как тот родник, о котором я говорил. В Гурзуфском парке, например, я надолго останавливаюсь возле фонтана Рахиль — он почти у входа находится: достаточно от ворот пройти мимо бронзового Пушкина, похлопав его на ходу по бронзовому колену. Рахиль тоже из бронзы. Девушка стоит на высоком постаменте с кувшином воды на плече. Кувшин тяжел, дорога к дому крута и вода поэтому слегка проливается. Тонкой звонкой струйкой. Прямо под ноги девушке. Вокруг же куда-то спешат вечно чем-то озабоченные люди. А Рахиль все несет свой кувшин к бесконечно далекому дому. Вчера несла его, сегодня… и завтра будет нести. Удивляя своим постоянством прохожих. И меня.
Если от фонтана взять немного вверх и через металлическую калитку выйти из парка в соседний с ним санаторий, то по дороге, усеянной цветочными клумбами, можно выйти к еще одной местной достопримечательности — к двухэтажному дому под могучим кипарисом. Именно в нем и жил юный Пушкин, находясь в гостях у генерала Раевского. В доме сейчас музей Пушкина. Экспонатов в нем немного. А вот кипарис могучий за домом точно помнит Александра Сергеевича. О нем он в письмах из Гурзуфа сообщал: в двух шагах от дома, дескать, растет крохотный кипарис, и я каждое утро хожу его навещать, привязавшись к нему как к другу… или что-то в этом роде.
Правда, в путеводителе но Крыму от 1913 года я прочитал еще об одном «пушкинском» дереве — о громадном платане напротив дома, где Пушкин якобы «любил отдыхать» и под которым «свободно могут поместиться 150 человек». «Враки! — заявили мне в музее. — Платан тут посадили через год после смерти поэта».
Три недели провел летом 1820 года Пушкин в Гурзуфе. И всегда считал их «счастливейшими минутами» своей жизни. «Страсти мои утихают, — припомнит он через год пережитое в прозаической программе поэмы „Таврида“, — тишина царит в душе моей, ненависть, раскаяние, все исчезает — любовь, одушевление…»
В музей поэта можно попасть и с гурзуфской набережной, но — в строго определенные часы. Ведь, как заявил мне сторож на входе в примузейный парк, посадки парковые, лужайки и клумбы теперь — частная собственность, гулять тут запрещено. И когда это люди успевают парки в собственность получать? Вместе с клумбами, огромным платаном и помнящим Пушкина кипарисом.
Еще в самом центре Гурзуфской бухты — это километрах в трех от музея, находится мыс Пушкина. Мыс крутой, почти отвесный. А на вершине его ютится т.н. «башенка Крым-Гирея». К ней мы будем путь держать, но — чуть позже. Потому что по дороге к пушкинскому Лукоморыо нас ждет скала с красивым, звучным названием Дженевез-Кая [«кая» — это и есть скала]. Нет, она не в честь Женевы названа, а — в честь Генуи. На скале ведь когда-то грозно возвышалась над морем Генуэская крепость. Это когда на берегах Крыма основали свои поселения средневековые генуэзцы-колонисты. Одну крепость они построили в Кафе [нынешней Феодосии], другую — в Суроже [сегодняшний Судак], третью — в Алустоне [Алуште], а четвертую — вот здесь, на скале возле Гурзуфа, который тверской, если не ошибаюсь, купец Афанасий Никитин, возвращавшийся в 1472 году из своего «хождения за три моря» и пережидавший под скалой шторм, назвал трудновыговариваемым словом Тъкрзоф. «Море перешли, — сделал пометку в дневниках путешественник, — да занес нас ветер к самой Балаклаве. И оттуда пошли в Тъкрзоф, и стояли мы тут пять дней».
Читать дальше