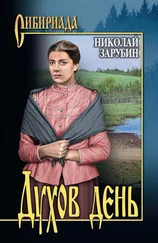В месяц по паре склянок притираний изводил, не думая о стоимости.
Бросал кистью на высокие скулы сухие румяна из кармина с тальком пережженным и растертым в пылкий порошок. Помнил напутствие вычитанное из "Золотой книги любви и волокитства"
"Юноша, для игры употребляй алую красу для возвышения живости глаз своих".
Лакей - куаффер угадывал, какую пудру выбрать на сей день по нечаянной морщине на лбу, по жесту расслабленной на подлокотнике, как болотная лилея, кисти руки, по учащенному дыханию.
Всякого сорта пудра была к услугам харитоньевского девственника - розовая, палевая, ванильная, ночной ирис, виолет и мильфлер.
В нежнейший прах добавляли амбру, или держали крахмалец по нескольку суток под свежими цветами жасмина, меняя их каждый день.
Закончив, Кавалер садился в маленькую манерную каретку "дьябль", то на колесах, то на полозьях и ехал вскачь из дома в дом.
Кумир кокеток, прельстивый лжец, мучитель и проказник - так в великой глупости и слепоте называли его.
Именно голодные немолодые женщины ввели Кавалера в моду, тщеславного, властолюбивого несносного, но нежного при всяком тайном случае неприкасаемого мальчика.
Заманивали наперебой на галантные вечера, на музыку и ужины с сюрпризами, одна перед другой, шурша шелками и тафтяными подолами, хвалились: "Нынче у меня обещал быть!".
Сорокалетние корсетные подруги передавали Кавалера от одной к другой, рекомендовали, как пикантный сырный десерт, без него вечер не вечер, стол не яств, а гроб стоит.
В беседе с московскими женщинками Кавалер был волен до наглости, скор на бесстыдство, лжив до честности. За правдивую ложь женщинки по-кошачьи дрались царапками, улещивали золоченого гостя, как умели. Саживали на лучшие кресла, сгоняя шлепком с бархатных подушек то мосек слюнявых, то мужей близоруких, и в ответ на салонные кавалеровы дерзости млели и звали его заглазно и в очи "резвым ребенком".
Воркуя, кормили из рук ванильными вафлями и пастилой, наливали новомодного игристого вина в лилейный бокал, подталкивали на галантный суд незрелых дочек - крепко помнили, что свободен отныне лакомый подарок, авось хоть на какую Таньку прыщавую или Софочку малокровную, бровь вскинет, улыбку подарит, скажет вальяжно: В жены беру".
Бровь вскидывал, улыбки дарил, но когда матери под румянами бледнели до синевы, выгибали поясницы и про себя подначивали, тормошили дочек невзначай: "Ну же, ну, выбери!". Кавалер брезгливо откусывал вафельку крученую, скупым глоточком запивал и помалкивал. Разве только присядет вполоборота за клавикорды, переберет лады, как настройщик, оглянется на веерный табун белотелых московских невест и замурлычет никому:
"Ах, когда б я прежде знала,
Что любовь родит беды,
Веселясь бы не встречала
Полуночныя звезды,
Не лила б от всех украдкой
Золотого я кольца
Не могла б надежде сладкой
Видеть милого льстеца..."
...Пригорюнившись бы стала
На дороге я большой
Возопила б возрыдала:
Добры люди, как мне быть,
Я неверного любила
Научите не любить..."
И чудилось флердоранжевым девочкам и увядшим подругам, что за всех них - одним горлом распевается пересмешник, всегда на соль-диез.
Он не помнил о вечно спускающих чулках, нарезавших бедра, о растрескавшихся от жеманных ужимок белилах на лице и плечах, о птичьей походке на французских шатких каблучках, о склеившихся башенных прическах, о блохах и опрелостях от дорогого кружевного бельишка, от которого наутро только красная боль, сыпь да стыдоба и ванны с чередой, пока не видит никто.
Но не забывал об ином, что ему наугад известно было: выкидыши, бели, горчичные ванны невтерпеж, адюльтеры с тисканьем под гнилыми от дождя покрышками дорожных карет. Излечивал тростниковым голосом своим даже те ночи, которым и названия в человеческой речи нет, когда лежишь, навзничь дура дурой, выпроставшись из нестиранной простыни, рядом супружник сопит и смердит, а ты воешь в черноту, как сука, бесстыдно и бесслезно. Луну с небес залпом сняли, третий час пополуночи, могильное время, завтра сорок пять исполнится, пальцы побелели в замок на груди от бессилия и старости,
Расторопные люди зажигали многорогие шандалы, вносили торжественную чашу-раковину наутилус с пуншем, открывали господа первую фигуру павлиньего полонеза по анфиладам комнат. Здесь все одинаковы - подростки и старики, выбеленные до фарфоровой глазури, с красными пятнами на скулах, ни возраста, ни болезни, ни изъяна - одно любезное воровство. Плыли над головами триумфальные плафоны - розовые мяса олимпийских богов в лазоревых небесах, морские старики верхом на рыбохвостых конях, колесницы и голубиные стаи.
Читать дальше

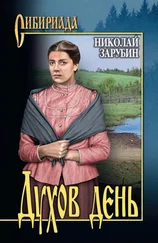

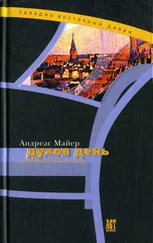
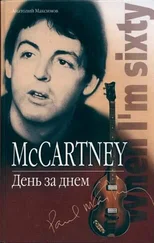

![chromewitch - Духов день [СИ]](/books/413247/chromewitch-duhov-den-si-thumb.webp)