Зачем, зачем он упомянул имя.
Терпеть я более не мог, право же, в лесу я был мужественней, на плече скрытного друга своего я выплакал Ноэми.
Обмолвился и о записке, присланной Раймоном. Слушая, Весопляс прятал глаза, как убийца.
- Позвольте, мой господин, я буду посредником меж вами и Раймоном, - наконец выговорил он. - Как я понимаю, вам осталось главное - поставить подпись. Почему вы не сделали этого сразу?
- Я боюсь, Весопляс. Боюсь того, кто третий в сделке. Он вроде бы дал мне взаймы, а я трачу чужое.
- Вы о Боге?
- Да. От него не скроешься, он видит и не простит, не так ли учили?
Весопляс рассмеялся:
- Простить или не простить может только тот, кто любит. Будьте спокойны, Бог не любит нас, Даниель. Впрочем, сейчас не время для философии. Дайте мне записку и доброй вам ночи. Будет вам завтра ваша…- он сглотнул и порвал, затягивая, шнурок на вороте куртки - ваша… кукла!
О чем он говорил той ночью с Раймоном мне, моя прозорливица, неведомо.
После купания меня сморил сон, и был он похож на грезы больного лихорадкой.
Вставала в изголовье Ноэми, она была обнажена и смотрела молча, но была скрыта своей наготой, надежнее, чем доспехом или гробом. Я клал руку ей на грудь, и Ноэми колебалась, как вода, и темнели ее губы, словно вызревали на солнечном виноградном нагорье, непричастные к страстям плоти ее.
Позади нее я различал дверь, отворенную в нездешний, южный сад - там стоял сплошным золотом полдень, гудел пчелиный рой и цвел гранат.
Подземная вода срывалась из ведра обратно в колодец с ледяным плеском.
На пороге скорчился Весопляс в греческой, на одно плечо тунике, и играл ножиком - острие посверкивало, впиваясь в пол меж пальцами смуглой его руки. Он улыбнулся и острием приколол свою ладонь, как бабочку, к половице.
Утром мы уехали из Глазго, сердечно распрощавшись с Моней и Раймоном.
Ноэми была словно облита багровой тканью, и лесная мурава золотом вышита по подолу платья, кудри ее были щедры и уложены в сетку из серебряных “шнуров любви”.
Луис, наладился было подсадить ее в седло, но она провела лошадь мимо него и улыбаясь, подала в мои ладони ножку, заключенную в сафьяновый сапожок.
Сделка совершилась.
Только на второй день пути я заметил залубеневшую сукровицей повязку на правой ладони Весопляса.
Заметил и тут же забыл, потому что как раз на том привале Ноэми подошла ко мне, когда я пил из родника, и поцеловала меня в лоб сухими губами, словно ужалила.
Британия… Наконец-то я увидел ее, и, увидев, не полюбил, ее не сравнить с Шотландией, которой свойственна нарочитая дикость. Все здесь дышало и бредило континентом и Французским двором, даже мещане средней руки старались хоть покроем повторить парижские наряды.
Я рассеянно пролистывал улицы Ньюкасла, и заглавной буквой каждого переулка, колокольни, городских пространств рассеянной солнечной пыли была одна Ноэми.
Она капризничала, и я купил ей янтарную нитку, она ждала казни пресловутого Вилли, как представления в тех дворовых балаганчиках, где над занавеской носатый Панч лупит жену Джуди дубинкой.
Корчмарь и Плакса строили из себя невесть что и вечерами наперебой ужасались:
- И как человек, называющий себя христианином, может любоваться мерзким зрелищем публичного убиения!
Оба поклялись не ходить на площадь, и положительно влияли на Смерда, которому было все едино.
Смерд походив по рынкам, ломал голову какой породы здешние поросята, да как у островитян родится такая ядреная овощь - земля тому способствует или навозная жижа. Вообще вдумчивые походы по базарам были единственной страстью Смерда, он мучительно долго бродил по рядам, прислушивался к протяжным крикам коробейников, щупал капустные кочаны, кроличьи тушки, принюхивался к свиным головам и пробовал обжаренные лесные орешки. Прогнать от прилавка такого верзилу не решались, никакого языка, кроме наречия Малегрина он не знал, хотя после нашего прибытия в Британию стал различать кое-какие английские фразы.
Он не мог взять в толк, что поросенка или теленка можно купить, а не вырастить или взять у соседа. Весь пройденный нами мир представлялся ему темной пустыней, где никто не работает, но непонятные раззолоченные фигуры постоянно беседуют на туманных языках, говорят и склоняются друг другу на плечи и проводят бессолнечные дни в нежной праздности. Разговоры тянутся до бесконечности, и ни одного слова не разберешь, как ни бейся.
- Нет, ты сам посуди, какое варварство, в начале просвещенного века рубят голову публично! Смерд, ты не должен ходить на площадь! - распинался Плакса, а Корчмарь поддакивал, потирая дырки от обрезанных ушей:
Читать дальше





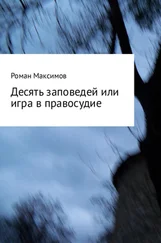
![Максим Максимов - Максимов³ [сборник litres]](/books/390605/maksim-maksimov-maksimov³-sbornik-litres-thumb.webp)



