Не весталка, не весть чья невеста! Но вести
Дурные разносят по весям…
Врачи!
О двенадцать убитых - тринадцатый я,
Распряженный фиакр, Опорожнен фиал.
Флер д оранж, и букетик фиал
Так убийственно мал!
Я - Сахара, Самум, Революция, Нация, Шторм.
Я на цыпочках эльф, заглянувший в ничто…
Чтобы что!
Смерти по горсточке в каждый рот,
Был я ангелом - стану - крот!
О, подруга моя, прислуга моя, умрем…
Тыкывык! Кубода, кубода! Гумц!Гумц!
Лабада, любода, бебека, лебезяй!
Ям, ням, мамана, убубу!
Убубу лебедей!
Лебедей!
Где??? Прыщ! Хвощ, борщ, дощщ, мощь!
Катерпиллер!
Дыррррр! Мрак! Бряк!
Мяя-кушка! Пы-ыпочка! Ё-олочка!
Тинь-тинь - трах!
Квак!
Поэта Трэвогу стащили со стола за ногу, поцеловали сразу две фрикаделистые курсистки, а у них в глазах - синева, а грудки колышутся едва.
Сквозь дым контрабандного индийского сандала и папирос первого классу “Тибет” от столиков доносятся вялые клики:
“Браво, Вава, жарь до пеплу!” “Так им и надо!” “Все равно все пьяные!”.
И тут же затолкали Ваву и забыли, следующий претендент занял внимание публики.
- Я правнук Царя Ирода! Мне две тысячи лет!
- бронированный подросток Бугай Гаевский в канареечной кофте с колоссальным лиловым бантом взгромождается бутсами на сцену, раскланивается бритой головою. На брпоблестящем черепе - крест - накрест телесного цвета пластырь. В руке - половник с дырками.
Орет с надсадой:
- Взвод,
Цельсь
Пли!
Тиф.
Цельс!
Спирт!
Вырвало
Родину
Начерно!
Голову враг на пику вздел!
Годуновы
кровавые
мальчики,
В пиз- де!
Гром.
Граб.
Грот
Вот.
В рот:
Анекдот.
Жид меня
Повстречал
у ворот
И… живет.
Улицы
косоротятся,
Переулки
косоворотятся,
Богородица
простоволосица.
Мама, выйди,
и поглазей.
Бог, закройте,
заткните хайло газет!
Смена кадра. Диалог. Детали.
Гортанный матерок Гаевского потонул в нежном говорке русой хорошей девочки за столиком у окна. Оплыл воск по бутылочному горлу, хорошая девочка теребила ворот вышитой по льну цветиками малороссийской сорочки. И бормотала, полузакрыв глаза, своему лысому виз-а-ви бредни. Лысый бодро разделывал ножиком-вилкой бифштекс и заразительно, с причмоком, жевал. Хорошая девочка старалась перекричать гомон погреба:
- … Когда я жила у мамы в Житомире, мне няня сказывала побасенку…
- Фляки! Три! Горошек мозговой! Разварной макрель! Отмена! - настырно вклинился официант.
За узким оконцем то и дело электрически вспыхивала весенняя синева - катила фронтом на Город, против течения Реки - по всем мостам и ржавым крышам с люкарнами и воровскими чердаками - сухая ночная гроза. Вздрагивали без грома электрические разряды, с треском рассыпался свет за крестовыми рамами.
- Няня говорила… В Житомире… Воробьиная ночь со сполохами бывает раз в шесть лет… Папоротник цветет… и рябинки… Колдуны варят привороты. Петя, вы не слушаете! Петя, я так не могу, я поеду отсюда… Петя, меня тошнит! Вот жила я у мамы в Житомире…
- Люблю гра-азу в начале мая, когда весенний чтототам! - густо из живота отозвался едок Петя и скучно пожал под скатертью лягушиную девочкину коленку.
Сухие сполохи за отодвинутой занавеской - сверк-сверк!
В проходе меж столиками уже тесно танцевали пьяные потные пары с привизгом и стуком каблуков.
- Мой голос все равно не будет услышан. Это - автобиографическое.
На сцене Ида Рубинштайн, вечно шестнадцатилетняя блондинка в лиловом платье для коктейля. На тощих плечах - черная цыганская шаль с красными розами и маками. Ида прижимала бисерную театральную сумочку на лямочку к нулевой груди. Зрачки расширены. Как ангел.
Поэтесса декламировала, раскачиваясь нараспев, упирая в нос на букву “Э”:
- Виолэтта, больная сирень.
У лазорево - пенного моря.
У причала с печалью во взоре
Виолэтта - больная сирень.
Виолэтта, больная сирень,
Паруса небеса воскресили.
Бескорыстны весны клавесины
Виолэтта больная сирень.
Виолэтта больная сирень
Экзотических слез лазурее
Ты склонилась к ногам Назорея…
Виолэтта - больная сирень.
Электрический шорох кружав,
Берега Магелланов и Куков,
Чрева монстров и бисерных кукол,
В потаенном экстазе дрожат.
О, в каком из полдневных Соррент,
Я увижу твой профиль, напротив…
Мы обрушимся в прозу, как в пропасть
Виолэтта - больная сирЭнь!
На глаза Иды навернулись честные, как у трехмесячной телочки, слезы.
Читать дальше

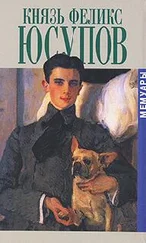

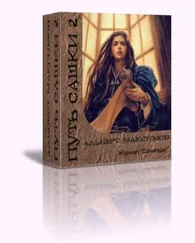



![Максим Максимов - Максимов³ [сборник litres]](/books/390605/maksim-maksimov-maksimov³-sbornik-litres-thumb.webp)
![Феликс Рябов - Двойная смерть [СИ]](/books/411222/feliks-ryabov-dvojnaya-smert-si-thumb.webp)
