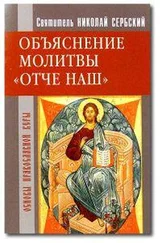Сараевские петухи на многочисленных огородах пропели зарю, когда усталый молитвенник опустился на постель.
Горбатая Юлия не знала, что Каллистрат отложил венчание. Она пришла на Литургию и заняла место возле правого клироса, поскольку знала, что на венчании жених стоит перед алтарем с правой стороны от невесты. В правой руке, под одеждой, она держала пистолет. Она ни разу не перекрестилась. Лицо ее было мертвенно-бледным. Отец Каллистрат все это заметил. Только по окончании службы девушка узнала, что венчание отложено. От нервного напряжения Юлия сильно изнемогла и, поддерживаемая няней, едва добралась до выхода из церкви. Сознание у нее помутилось, и как только ее привезли домой, она рухнула в постель.
Каллистрат теперь был уверен, что Юлия на самом деле способна совершить злодеяние в церкви. Потому он призвал меня, Иова Сарайлию, чтобы я с утра сходил к этому несчастному Вулу и передал ему, что Каллистрат не может венчать его в сараевском храме ни в следующее воскресенье, ни в какое другое время. Но если он решил венчаться, то чтобы венчался где-либо в другом месте, и чтобы об этом не знали в городе, а особенно, чтобы об этом не знала Юлия. Так он мне сказал, и я пошел, и передал все Вулу. Услышавши это известие, несчастный закричал:
— Я перейду в католическую церковь. Я могу перейти и в ислам. Мне все равно. Никто не может насильно навязать мне отвратительную горбатую Юлию. Она — одногорбый верблюд, а если я женюсь на ней, то стану двугорбым верблюдом.
— Как вам не стыдно, молодой человек! Бог слышит и отплатит за это, — сказал я ему и возвратился домой.
Несколько ночей Юлия не могла заснуть. Нервы ее разыгрались и прогоняли сон. Из-за этого по ночам она подолгу задерживала няню и просила о чем-нибудь рассказать. Няня садилась на край ее постели и вспоминала о старом добром времени, когда простое данное слово значило больше, чем письменное обещание, и когда человек человеку давал в долг под честное слово до четырех сотен дукатов, и когда не знали об изменах в браке, или о разводе, и когда жены рожали по двенадцать детей.
Тут Юлия ее прервала:
— Ах, няня, няня, как бы я хотела иметь детей. Только из-за детей я решалась на брак. Людей я презираю, но детей несказанно люблю. Дети, няня, дети, дети! Что может быть лучше детей, и особенно множества детей? Не просто как один цветок, но как целый букет цветов? Ох, няня, няня! А что ты думаешь о Каллистрате?
— Думаю, золотко мое, что он святой человек.
— Ох, святой человек! Лицемер, как и все другие.
— Нет, золотко мое, нет, овечка моя, он не как другие. Он живет беднее любого сараевского ремесленника, а всех нас обогащает духом и истиной. А когда он служит в церкви, я сама это видела и другие тоже, лицо его сияет как солнце. И турки его почитают, и зовут Баба-Калуджер (Великий монах — Прим. пер.), а мусульманки идут к нему, чтобы он помолился об их больных детях. Вот каков наш духовник, голубка моя.
— Оставь, няня, эти глупости, и иди, иди теперь спать.
Боже, как сложно всякое человеческое существо! Несмотря на то, что Юлия и произносила слова, хулящие Бога и Его слугу, в глубине души ее таилась некая сила, которая противоречила ее словам. Всякий день она посылала няню к отцу Каллистрату, прося его прийти. И в течение недели старец трижды нашел время, чтобы откликнуться на ее зов.
— Спасибо вам, отче, что на прошлой неделе вы не обвенчали этого изверга. Но вы будете венчать его в следующее воскресенье. Знайте, что на этот раз вы все же увидите две смерти перед алтарем. Я не поколебалась в своем намерении. Убью его, убью и себя.
Старец ужаснулся в душе; он как будто услышал голос демона из ада. Потом он сказал:
— Ты не убьешь его ни в следующее
воскресенье, ни в какой другой воскресный день, потому что я не буду венчать его в Сараево. Будь спокойна и брось пистолет в реку Миляцку. Есть некто больший тебя и меня, Который судит, и Который и его будет судить.
Бог не судит из мести, как ты этого хочешь, но по правде и по любви, по одной только высшей правде и любви.
— Что это за высшая любовь? Разве не одна и та же любовь везде и всюду, телесная и страстная? Хотела бы я услышать об этом, — насмешливо сказала девушка.
— Дочь моя, нельзя говорить о высшей или небесной любви с тем, кто потерял веру в Бога. Когда к тебе возвратится прежняя вера в Бога, только тогда ты будешь способна слышать и познавать эту высшую божественную любовь, которая не зависит от телесной красоты или от уродства. Ибо вера — это корень, из которого растет и тянется ввысь стебель надежды, и на котором сияют золотые плоды любви.
Читать дальше