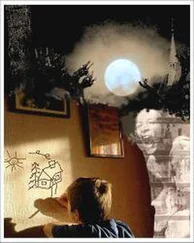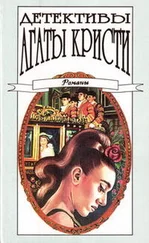Это двойное знание человека о себе — наружное и глубоко затаившееся на дне души — все время желает в рассказах В. Распутина стать одним знанием, как бы единым живым существом. И все же герои его часто «:выходят вперед», как он пишет, отделяются от себя. Человек стоит на берегу Байкала и вдруг обнаруживает, что он уже в другом месте, что перед ним тот же пейзаж, да не тот, и что сам он, не перенесясь в пространстве, сменил точку обзора. Это блуждает и скитается его второе «я», которое он ранее не осознавал в себе.
Что-то вошло в Саню, пишет В. Распутин, и что-то вышло. Вошло вместе со вздохами тайги, с какой-то тайной печалью Байкала, который «зовет свою потерю» и ждет ответа. «Тьма вздохнула, чего-то добившись», — она добилась понимания у человека. Человек и тьма связаны, их беззвучный диалог переходит на интимный шепот и вздохи печали.
Ответ ночи, ответ «даровой благодати» дня на вопросы Сани для Валентина Распутина ответ ответов. Без объяснения, без изложения той и другой стороной своих резонов нет и не может быть согласия. Тайга «понимает» душу Сани, а Саня «понимает» душу тайги. Им есть о чем перемолвиться.
Что такое душа? — спрашивает В. Распутин. Есть ли она достояние «общего ряда» и ее место в «общем ряду», или все же она феномен, который, обитая в нас, преображает и сам «общий ряд»? Чтоб познать этот феномен, нужно напряжение высшего порядка. Нужен полет духа и полет слова. Если перед «раздвинутостью» одного дня немеет голос, то что говорить о безграничном просторе, который способна облететь в какие-то мгновения душа?
То и дело в рассказах В. Распутина повторяются слова «освобожденность», «обновление». Тяга к освобожденности — и прежде всего в слове — неумолима. Кажется, достигни автор этой свободы, и разрешатся все вопросы. Оттого каждый глоток новизны отдается в сердце «торжественным колокольным ударом».
Даже в рассказе «Не могу-у» — беспощадном реквиеме «бичам» — есть этот светоносный языковой слой. Герольд — русский мужик с иностранным именем — напоминает В. Распутину «мужичков», стоявших насмерть на поле Куликовом. Его лицо, как и лица тех мужичков, «затевалось для простодушия и сердечного ответа». Хотя в своем отчаянии и неверии этот Герольд дошел до «предела». И жена спилась, твердит он, и сын сопьется. «Не сопьется», — жарко возражает ему сосед по купе. «Сопьется», — настаивает Герольд.
«Герольд» на немецком языке «вестник», «глашатай». Так неужели же Герольд пророк нашего будущего? «Врешь!» — отвечает ему сосед по купе. «Ты это что, герой, плетешь?! Врешь! Ты спился, я сопьюсь, а им нельзя! — Он выкинул руку в сторону ребятишек, которые, ничему не удивляясь и ничего не пугаясь, стояли тут же. — Им надо нашу линию выправлять. Понял ты, бичина? И никогда больше так про своего сына не говори. Понял? Кто-то должен или не должен после тебя, после всех нас грязь вычистить?!»
В. Распутин никогда бы не смог искать согласия только в атмосфере чистого духа. Только там, где дух, играя с собой, устраивает свои дела. И недаром он ищет в спившемся попутчике человека, недаром, напрягая зрение, хочет прочесть в его безнадежно смотрящих на мир глазах «ответное чувство». Крик Герольда «Не могу-у», похожий на плач по самому себе, по обрывающейся в темной дали цепи рода, — это все-таки крик неомертвевшей ткани, не распадшегося насовсем сознания.
Он кричит «не могу-у», потому что не может сжиться со своим падением, потому что хотя бы на этот вопль у него еще остались силы. И он еще способен разглядеть в горячащемся рядом поборнике справедливости — человека в трико (которого В. Распутин так и называет: «трико») — демагога и пустобреха. Он припечатывает это «трико» одним убийственным словом — «порожняк».
«— Порож-няк! — звучно, со сластью кинул ему мужик», — пишет В. Распутин и добавляет: «откуда и красоты такие взялись в этом голосе».
Раз у человека нашлось живое слово, значит, он еще не погиб. Значит, в нем жива душа. Значит, и его страшное лицо, которое автор видит в конце рассказа приплюснутым к вагонному стеклу, немо кричащим свое «не могу-у», еще способно на ответ.
В. Распутин остается В. Распутиным. И когда он пишет о заброшенной дороге вдоль Байкала, о городской «саранче», которая, слетев с поезда, устремляется в леса, проносясь мимо пустых и черных, как «гробы», домов, где никто не живет, мы вспоминаем «Последний срок» и «Прощание с Матерой». Но некая подъемная сила и «тяга» возносят нас в его новых рассказах резко вверх.
Читать дальше