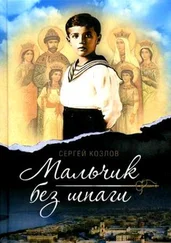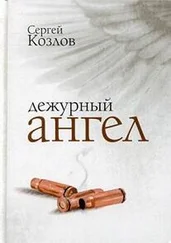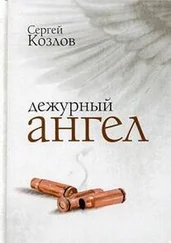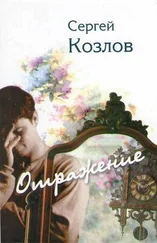А батюшка даже заплакать не смог, просто сердце оборвалось, когда еще не наступившим утром ему сказали, что ушла матушка... И Варенька — дочка, едва мир успела увидеть — улетела некрещеная. Что-то там лопотали доктора, что-то объясняли, а сердце, как упало, так и осталось ниже земли. Нет, не роптал Нифонт, просто не нашел в себе сил пережить, перемолить горе. Уже днем вышел из храма, упал на снег, а слезы стоят в горле, не идут наружу, только лицо горит и в груди ломит. Староста его поднял, в каморку свою завел, рюмку налил: не простудился бы, батюшка. И уж потом только рассказал, что из Петербурга пришло другое печальное известие: почил в Бозе всероссийский батюшка отец Иоанн.
— Может, — говорит, — он за руки матушку Ольгу и доченьку вашу через все мытарства проведет. Великий молитвенник ведь. Мы тут все думали, что это он Россию от беспорядков и революции вымолил... Выпей еще, батюшка, легче хоть мало-мало будет.
И батюшка выпил...
1909 г.
Эх, так и запил батюшка с горя. Запил и сам не заметил как. Где крестины, где отпевать — везде нальют. Сначала, вроде, на ногах держался, а потом и падать начал, где ни попадя. Уж и сам Владыка его корил, и наказывали, но от лона Церкви не отсекали, от служения не отрешали, ибо, как это ни удивительно, паства отца Нифонта любила, алтарники с ним на службах плакали, даже заступались за него перед церковным начальством. Да и литургию отец Нифонт служил всегда трезвым, из последних сил, обливаясь потом и слезами, но трезвый. А вот к вечеру...
Жалованье батюшка раздавал без жалости. А за бутылкой шел подчас просить в долг в магазин или в лавку. В иной давали в долг, в иной давали, махнув рукой: хочешь пить — пей; в иной — стыдили и отправляли восвояси. Но как бы там ни было, а водка всегда находилась или всегда находился тот, кто ее приносил. Самое обидное было, когда едва бредущего в сумерках домой отца Нифонта окружали дети и галдели наперебой:
— Старый, лысый, пьяный поп, водки выпил целый гроб!
— Да, ребятушки, — соглашался со слезами на глазах Нифонт. Только нет вот матушки Ольги, она бы вас леденцами угостила, — вспоминал он.
— Поп по улице идет, черт ему еще нальет! — отвечала детвора.
— Да, ребятушки, — всхлипывал Нифонт и торопился уйти восвояси, а вслед ему летело: «старый, лысый, пьяный поп», хотя по отношению к отцу Нифонту верным было только последнее. Ни старым, ни лысым он не был, хоть и осунулся, хоть и мешки под глазами.
Посреди ночи он иногда вставал, томимый похмельем, тянулся сначала к воде, потом к бутылке с вином, но неизменно падал на колени перед образом Спасителя и, не смея поднять глаз, шептал:
— Господи, милостив буди мне грешному... Прости меня окаянного... Скажи Олюшке, что сам я не ожидал... Помоги мне, Господи, грешному... Крест, что ли, мне великоват... Олюшку, Симона моего Кирениянина, ты призвал... Прости меня грешного... Поломалось что-то внутри... Прости... Прости...
И так день ото дня, ночь от ночи. Иногда ему казалось, что уже не сможет он утром выйти в храм, вот уже и руки стало потрясывать мелким бесом, но Господь каждое утро подавал ему сил — ровно столько, чтобы отслужить, и совершал он даже требы, но к вечеру всегда был пьян. Просветления наступали у него на Великий и Филиппов пост, когда он прокусывал себе губы до крови, бился по ночам в горячке, обливаясь потом, и ему казалось, что тело его сейчас же разорвут ненасытные бесы на части, и вытечет пугливая душа гнилым ручейком, и стыд заполнял все окружающее пространство. И тогда звал он Оленьку, звал, будучи абсолютно уверенным, что она слышит его, и порой мнилось ему, что она стоит где-то рядом, вот-вот вытрет липкий пот с его тела, поправит слежавшуюся вонючую подушку, положит ладони на лоб, и он сам же гнал от себя это чувство, даже в таком состоянии опасаясь быть прельщенным.
Могло пройти полгода или больше, прежде чем Нифонт по той или иной причине снова выпивал спиртное. И уже буквально через неделю неслось за ним по улице:
— Старый, лысый, пьяный поп, водки выпил целый гроб!
Или приказчик какой, попыхивая папиросой у лавки:
— Хорош батюшка! Никак четвертиной причастился...
Или какая-нибудь дама, искажая лицо гримасой презрения:
— Фи, какая мерзость, а еще святоша!
— Оленька моя так бы никогда не сказала, — шептал самому себе отец Нифонт.
Наконец послал Бог спасительную мысль: в монастырь надо уходить. Сразу надо было. Но тут в стране стало происходить что-то невообразимое. Не то ли, о чем предупреждал батюшка Иоанн Кронштадтский?
Читать дальше