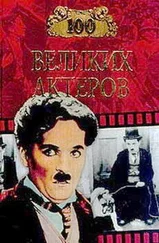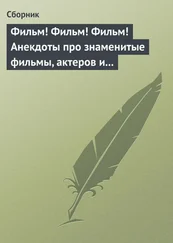Бывает полезно вот так, чужими глазами взглянуть на этот последний по времени портрет. Мы ведь бываем слишком заинтересованы и пристрастны? Ведь это наш фильм, наш режиссер, наш актер! А далекий итальянский критик, не знающий языка и воспринимающий фильм с назойливым комментарием скупых субтитров, продиктовавший первое впечатление в свою редакцию по телефону в ночь после просмотра, что он увидел в этом образе? И оказывается, он увидел все. "...Робкой манерой взывать о помощи..." Я вижу сцену с младшим сыном:
С ы н.
Я не могу с тобой разговаривать.
О т е ц .
Почему?
С ы н.
Наверно, потому, что ты не умеешь слушать. Ты слышишь то, что хочешь слышать. Незнакомой мелодии ты не слышишь.
Так приходит возмездие за многолетнее отторжение жизни в ее первородных контактах. Когда под занавес следует звонок министра и фильм склоняется счастливому концу, Ульянов в изящной и трогательной паузе предлагает два финала этой истории.
Абрикосова назначат директором другого завода. Впряженный в колесницу привычного ритма, он забудет все чему учила его за эти долгие месяцы
п р о с т а я
и великая жизнь.
Абрикосова назначат директором другого завода, но он ничего не забудет, ибо расслышал
д р у г у ю
, человеческую мелодию.
Возможен и третий финал, вероятно иллюзорный, но коли он явился в воображении, навеянный все той же, как говорят в театре "гастрольной" ульяновской паузой, нужно сказать и о нем.
Абрикосов отказывается от назначения и всю оставшуюся ему жизнь посвящает знакомству с людьми – с женой, с сыновьями, дочерью. С людьми.
Какая многозначительная пауза! Он стоит перед зеркалом с полуповязанным галстуком и всматривается в себя:
– Кто ты есть человек?
...Но галерея не закончена. Во второй половине этого "ульяновского" года он знакомит меня еще с одним изображением, на этот раз в своем театре.
На сцене полукружье из семи стульев. На них высшее руководство огромного края – величина его обозначена в названии пьесы. Бюро Крайкома. Из семи зритель может выбрать "своего". Или – "своих". Или в каждом с в о е . Зритель всегда за кого-то и против кого-то. Зал сегодня поучителен. Порой таинствен и страшен – вещь в себе. Порой бесхитростен – ребенок. А он играет залом, как его герой всю жизнь играет людьми. Непросто понять его "систему бытия", уразуметь цель, разглядеть цельность Серебренникова – уж очень все в нем неправдоподобно, противоречит общеизвестным нормам и истинам.
Чем же он берет, Серебрянников, – ведь сорок лет в своем кресле, сорок лет!
Анатомией его устойчивости и занят артист. Он элегантно раскладывает по полочкам элементы, составляющие облик его героя. Каждую полочку демонстрирует как бы отдельно.
Например, простота. Уж так прост, так прост! Член Бюро Ломова, крановщица, хлопочет о квартире сыну. К Первому не пойдет, к помощнику не пойдет, а к нему, Николаю Леонтьевичу пойдет. Потому что прост.
Руки эдак грабельками на коленях складывает. Жена четвертый год болеет, лежит. Сам спит на клеенчатом диванчике. На нем, видно, и умрет. Вот ведь как! Хором не строит, "Жигули" сыну не дарит. В галстуке, правда, ходит, но сорочка под пиджаком, вроде косоворотки эпохи двадцатых годов. Все это каким-то хитрым способом Ульянов прорисовывает. Аскетичен, суров, сер. Ничего себе, все ей Линии.
Себе ничего? Так-таки и ничего? Будто бы так... Ульянов исподволь готовит зал к пониманию феномена Соребрянникова. Знает, слышит в зале есть зрители, которые выбрали его в "свои", аплодируют на "железные", принципиальные его реплики...
Другая полочка. Народность. Ульянов деликатно, но уверенно показывает пределы грамотности Николая Леонтьевича. Голову немножко на бок. Чуть-чуть. Словечко "пошто" ласково шуршит в его речи. Словечка, кстати, такого в пьесе А.Мишарина нет, его Ульянов где-то подслушал. Серебренников употребляет его, когда прибедняется, когда ему мужичком надо сказаться, народный корень свой приоткрыть.
– Ты пошто, Юрий Васильевич, так говоришь, пошто?
Или:
– Михайло-то Ивановичу Шахматову...
– Это "Михайло-то..." точно знак его "народности",
А глаз хитрый. И вдруг блиц-вспышка ненависти к интеллигенту Первому секретарю. Ах, какая роскошная ненависть!
Мы диссертаций не писали, нам диссертации ни к чему! Зато сорок лет черный хлеб партийной работы едим! – вслух, но больше про себя в се время говорит Серебренников.
Здесь, на этом круглосуточном по случаю чрезвычайного происшествия Бюро Крайкома Николай Леонтьевич Серебренников обнаруживает виртуозное владение политической демагогией, искусством аппаратной интриги, универсальную приспособляемость к обстоятельствам, навык непрерывного, сгибающего душу, словесного прессинга.
Читать дальше