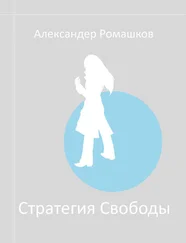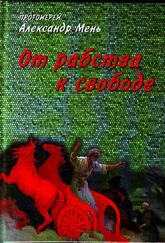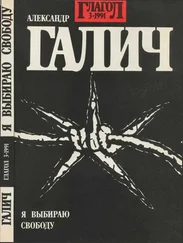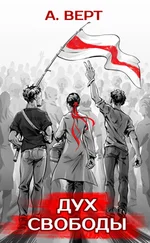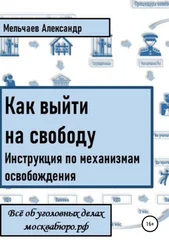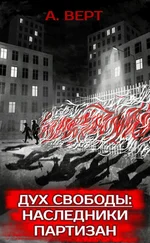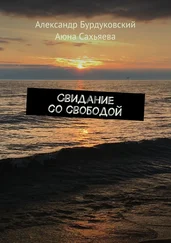Трудно, например, не согласиться с автором в том, что в белорусской прозе некоторые книги о войне, незаслуженно претендуя на особое читательское внимание, тем самым снижают критерии оценки, заодно дискредитируя и все то удачное, что сделано в этой области. Но когда В. Акудович видит несообразность в том, что на протяжении сорока лет война остается «болью настоящего» в национальной литературе, то жалеешь, что он не задается вопросом, почему так происходит. Ведь в этом случае пришлось бы ответить: потому, что боль войны «конденсировала» в себе и давала возможность литературе сказать народу о боли всей его прошлой и нынешней жизни; потому, что именно литература о войне и о деревне, как не раз отмечал в своих книгах Алесь Адамович, первой шла в прорыв к правде о жизни общества, его истории и современности.
В. Акудович противопоставляет «литературе потрясения» народный взгляд на войну, с наибольшей отчетливостью сказывающийся, по его мнению, у Янки Брыля (роман «Птицы и гнезда»): война — ужас и смерть, но жить одним сознанием этого нельзя, живое жаждет жизни. И Янка Брыль, и Кузьма Чорный, и Максим Горецкий, считает автор, писали не столько о самой войне, сколько о жизни в условиях войны и потому-то именно о войне как об искажении и уничтожении жизни сказали больше, чем те,' кто писал о ней напрямую. Но ведь и правдиво изображенная в литературе война говорит о сущности человеческой жизни не меньше, чем книги о мирном времени. Примеры известны слишком хорошо и стали уже хрестоматийными: «Огонь» Барбюса и «Смерть героя» Олдингтона, «Прощай, оружие!» Хемингуэя и «На западном фронте без перемен» Ремарка. Традиции этой литературы по-своему продолжают и советские прозаики, в том числе и Василь Быков.
Особый вопрос — о том «качестве эстетического наслаждения», которого, на взгляд критика, «литература потрясения» не содержит и потому в полном смысле литературой считаться не может. Излишняя радикальность такого суждения идет, думается, и от одностороннего, быть может, даже и слишком буквального понимания самого этого упомянутого эстетического качества — назовем его в отличие от В. Акудовича художественностью.
Есть ли она здесь вообще? И если есть, то как и в чем конкретно ощутима? Что же она такое в жесткой, небогатой по краскам языка и описаний, зачастую сумрачной прозе Быкова?
Конечно, лучше всего было бы привести хоть бы один пример чего-то, присущего лишь Быкову, только ему одному.
Манера повествования? Но она у Быкова традиционно-реалистическая, приемы рассказывания чрезвычайно просты. Да, это простота писателя, обладающего, наверное, высоким искусством — безыскусностью искренности. Нигде мы не найдем у него даже признаков холодноватой изысканности стиля. Свидетельствует ли это настороженное неприятие литературного блеска о стилистической особенности Быкова? Несомненно, но так далеко не у него одного. Если иметь в виду белорусов, то, скажем, и у Янки Брыля, и у Ивана Мележа.
Так называемый психологизм? Он, видимо, у Быкова «открытый»: импульсы скрытого душевного движения чаще всего моментально обнаруживаются, все сокрытое выталкивается вовне, наружу тесно обстуающими критическими обстоятельствами войны. Но ведь и это, в общем-то, традиционно.
Может, характеры? Они у Быкова достаточно сложны, но вместе с тем построены как бы по принципу открытой, совершенно очевидной доминанты — нравственной. Конечно, это нравственные максималисты и это их глазами смотрит писатель на войну, на смерть, на жизнь. К тому же ни самоиронии, ни юмора. А впечатления тяжеловесной «монолитной» правильности нет. И, глядя на лучших героев Быкова, ловишь себя на ощущении, которое невольно заставляет вспомнить слова Чернышевского о Толстом, авторе «Детства», «Отрочества» и «Военных рассказов»: «...у него нравственное чувство не восстановлено только рефлексиею и опытом жизни, оно никогда не колебалось».
Именно это и является доминирующим началом в быковских героях. И вот отсюда уже, наконец, не так и далеко было бы до той отличительной особенности художественного характера у этого писателя, которую можно определить как способность упреждения судьбы. Эта способность у героев Быкова поддерживается именно нерасщепляемым, абсолютно «неэкспериментальным» нравственным основанием и делает человека личностью, предоставляя ему ту необходимую площадь внутренней свободы, когда ему действительно есть из чего выбирать и от чего отказываться, а не исполнять послушно року единственно возможное и предначертанное.
Читать дальше