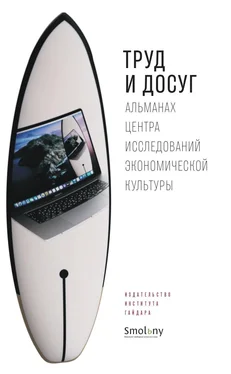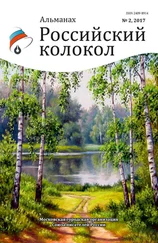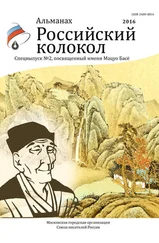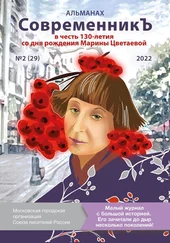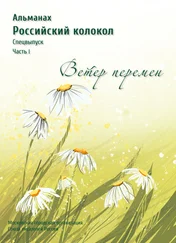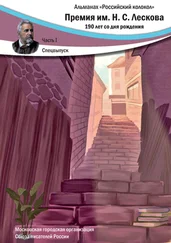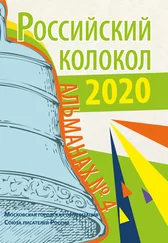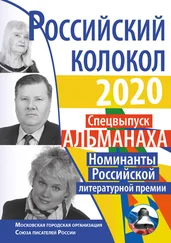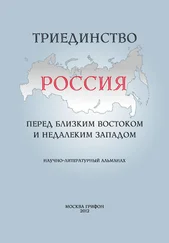Третий раздел включает работы, посвященные проблематике труда и досуга в культуре и искусстве. Светлана Александровна Семенчук описывает становление мифа о Стаханове и репрезентацию стахановского движения в советском кинематографе 1930-х годов. Михаил Михайлович Захаров размышляет о ситуационистских корнях творчества французского режиссера Оливье Ассайаса, представляя краткий обзор его фильмографии с точки зрения теории нематериального труда. Жанна Викторовна Николаева обращается к анализу происхождения, современного состояния и экономической эффективности социально-культурного конструкта медленной жизни в Италии. Французский философ Эрик Аллиез интерпретирует произведение Cosmococa бразильского представителя искусства неоконкретизма и культурного движения «тропикалия» Элио Ойтисики, который в период своего изгнания на Манхэттен манифестирует творчество, противоположное досугу как стандартизированному развлечению в обществе потребления, – креализацию. Ерлан Абулхаир обращается к феномену музыки в контексте досуга.
Четвертый раздел посвящен работам исторической направленности. Елена Васильевна Дианова описывает роль кооперации европейского севера в организации досуга советских лесозаготовителей в конце 1920-х годов, различные направления культурно-бытовой и культурно-просветительной деятельности кооперации на лесозаготовках и ее участие в антирелигиозной пропаганде. Анна Владимировна Хорошева рассматривает значение физкультуры и спорта как видов досуга в Советском государстве в 1920–1930-е годы, а также политику по популяризации физкультуры среди населения для мобилизации его сил в интересах государства. Светлана Юрьевна Малышева анализирует изменение на протяжении 1920–1980-х годов образов будущего/идеального досуга советского человека, его сущностных черт, соотношения в нем приватности и публичности, массовости и элитарности. Любовь Владимировна Завьялова обращается к истории зарождения и развития клубной культуры Санкт-Петербурга в XVIII – начале XX века. Андрей Россомахин, используя визуальные артефакты, хронику и поэзию, рассуждает о символе эпохи революции 1917 года – семечках, которые из спутника досуга люмпена стали мемом хаоса и апатии.
* * *
Издаваемый сборник по труду и досугу не мог бы быть подготовлен без внешней поддержки. Особая благодарность декану факультета свободных искусств и наук СПбГУ А. Л. Кудрину за неизменную поддержку инициатив Центра исследований экономической культуры. Огромное значение имела идеальная работа Издательства Института Гайдара, за что признательны В. В. Анашвили. На разных этапах подготовки текстов и особенно переводов неоценимую помощь оказали МЦСЭИ «Леонтьевский Центр» и АО «РНГ».
Теоретическое осмысление труда и досуга
Маргинальное время труда и досуга: экзистенциально-онтологический аспект
Юрий Разинов
Разинов Юрий Анатольевич (razinov.u.a@gmail.com), доктор философских наук, профессор кафедры философии Самарского национального исследовательского университета имени акад. С. П. Королёва.
В статье обсуждается тема демаркации труда и досуга, которая рассматривается в темпоральном аспекте. В частности, ставится проблема маргинального времени и диффузии границ между трудом и досугом. С целью экспликации экзистенциально-онтологического горизонта маргинального времени анализируется понятие «оставшегося времени» Дж. Агамбена.
Ключевые слова: труд, досуг, лень, праздность, маргинальное пространство, маргинальное время, остаточное время, темпоральная диффузия, предел, крайность, Агамбен.
JEL: J17, J22, J26
Выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00910 «Маргинальные феномены человеческого бытия (Антропология ad Marginem )».
Когда в делах – я от веселья прячусь;
Когда дурачиться – дурачусь,
А смешивать два этих ремесла
Есть тьма искусников – я не из их числа!
А. Грибоедов
В отличие от маргинального пространства, проблема маргинального времени практически не тематизирована. И это неудивительно, поскольку слово «маргиналия» исходно является термином пространства, а не времени. Латинское marginalia первоначально означало затекстовые поля книги и лишь впоследствии стало характеристикой социального места и отношения. Маргиналией принято называть пространство, структурированное границей ( margo ), а иначе говоря, край. Но поскольку русское слово «край» в одном значении есть «граница», а в другом – «область» (например, Читинская область и Приморский край), то подчеркнем: маргиналия – это именно область, а не граница или предел. В пространственном смысле это промежуток между внешним и внутренним пределами. И если в узком, начальном, смысле маргиналия – это расстояние между краем страницы и границей текста, то в широком смысле – это пограничная область или периферия.
Читать дальше