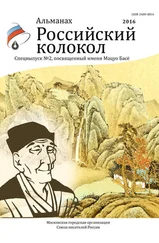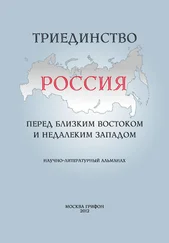Перейдем от общего к частному, зададим более легкий вопрос. Что сегодня за день? По календарю Хуучина Зальтая, мастера Нууца. Суббота? Суббота – очаровательное понятие. И относительное. Зависит от того, где находится солнце в тот или иной момент. Умножим же очарование, продлим, превратим субботу в саббатикал. Шабаш поддерживать ни к чему. И не забудем, что другие дни тоже важны. Раньше или позже на нас обрушатся. Улита едет – компенсатор силы у заводной пружины в часах. Развивающейся в оптимальный период. Например, в четверг Моисей поднялся на гору, в понедельник спустился. А для нового дела лучше подходит вторник, ибо господь именно во вторник обнаружил, как прекрасен этот мир. Который мы испоганили, костерим на все лады и не знаем, как исправить. Ждем взрыва.
Ход замедляет только реверсивная защелка. Ослабляет натяжение.

* * *
Когда встаёшь средь темноты —
воды попить, принять таблетку —
с вещами больше не на «ты»,
то это возраст, годы, детка.
Не понимает молодёжь:
встал человек и трёт макушку.
И мать в потёмках позовёшь,
и детства первую подружку.
Жить неуютно наяву,
как пузырёк искать без света.
А то отца ещё зову
стрельнуть – ну, это – сигарету.
* * *
Вместе с нами в поговорку
несколько вещей войдёт:
жить в России надо долго,
красота весь мир спасёт.
Тени исчезают в полдень,
жизнь – билет в один конец,
утром выпил – день свободен,
водка любит огурец.
У властей свинячье рыло.
Пушкин был большой поэт.
«Что пройдёт, то станет мило», —
он сказал и умер вслед.
И кого остановила
красота стихов его,
музыка, большая сила.
В этом мире никого.
* * *
На восточном базаре купила я питу,
сколько всякого разного в питу набито:
сладкий лук, помидор, белый хумус, фалафель
и горячего соуса несколько капель.
Мне восточный базар почему-то всё снится,
с золотыми глазами краса-продавщица,
незнакомые лица, весёлый прилавок —
видно, создана я для подобных приманок.
Солнце в голову, много горячего пыла…
Я брела к остановке, с собой говорила,
всё оглядывалась на цветной околоток.
А теперь я скажу, утерев подбородок.
Если между ладошками белого хлеба
всё вместилось так чётко и великолепно,
может, мир нам сложить на земном этом шаре,
как хорошую питу на жарком базаре.
* * *
Мы так разъезжались: хлебнули по стопке,
помыли полы в опустевшем дому,
оставили чайник, кастрюли на бровке,
сказали: «А вдруг пригодится кому?»
Молчали в усталости жаркого полдня,
давнишние письма делили в конце.
Бил колокол на невысокой часовне
сушилось бельё на соседском крыльце.
Последнее – в памяти прожитой жизни,
как будто бы в доме, идущем на слом, —
наш двор, где летают бумажные письма,
где мы напоследок с тобою вдвоем.
* * *
Среди кривых расшатанных осин
клин вышибали – лишь забили глубже,
жгли молодости быстрый керосин —
какое счастье было в этой чуши!
Купили как-то старый драндулет
на общие семейные финансы,
его нам продал пьяница-сосед,
сказал: «Иду в лечебницу сдаваться!»
Сначала не работал дуралей,
но что-то привинтили, прикрутили,
поддали, чтобы было веселей,
и затрещал мотор в автомобиле.
И в нашей тусклой жизни без всего
в тот вечер подобру и поздорову
имели счастье, верили в него
в прокуренной хрущёвке Кишинева.
Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Здесь фонари похожи на вопросы
среди французских выгнутых оград,
у путника очки съезжают с носа
и мысли набегают невпопад.
От русских узнаваемых фамилий
становится на сердце горячо.
Кем они были, где и как служили,
что вспоминали, говорили что?
Каким их ветром занесло далёко,
холодным, тёмным, северным сюда?
Фигура чуть растерянного Бога
разводит лишь руками у креста.
Несли их войны, словно злые крылья
безумных мельниц, разметая всех.
А вон Ивана Бунина могила
с цветами и колосьями поверх.
Видна вдали обычная часовня,
деревьев разноцветные верхи —
что Бунин так любил немногословно
и прятал в суховатые стихи.
Он о высоком мог сказать с прохладой,
о русского снеге грезил до конца.
Храни сент-женевьевская ограда
в своих объятьях лёгкого жильца!
Читать дальше