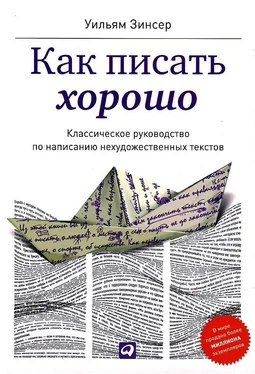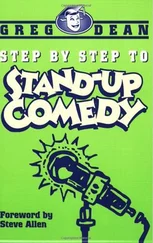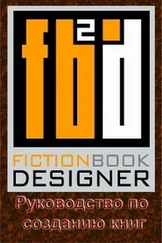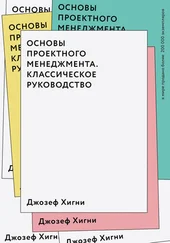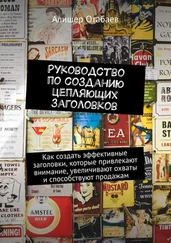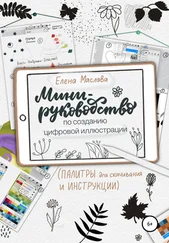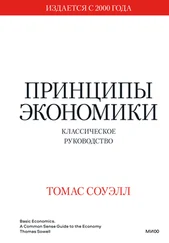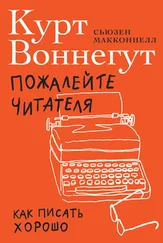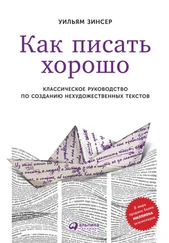Удивительно, до чего редко музыканты обсуждают между собой, насколько прав или неправ бывал Тосканини в выборе скорости, ритма и тональности. Подобно другим музыкантам, он часто действует удачно и столь же часто ошибается. Гораздо более важна его неизменная способность покорять публику. Он ничтоже сумняшеся ускоряет темп, жертвует ясностью и игнорирует базовый ритм, просто гоняя музыку по кругу вслед за своей палочкой, стоит ему только заметить, что слушатели начинают отвлекаться. Ни одна пьеса не означает ничего особенного; все они служат лишь тому, чтобы вызывать у аудитории единодушное восхищение. Этот метод называется «бить на эффект».
Здесь нет никаких рубато и тесситур; нет и слепого преклонения перед знаменитостью. Однако Томсон в двух словах объясняет нам, чему Тосканини обязан своим величием: в его манере явно было кое-что от шоу-бизнеса. Если поклонникам маститого дирижера оскорбительно это слышать, они могут по-прежнему восхищаться им за его «лирическую жилку» и оркестровые тутти. Я соглашусь с диагнозом Томсона — подозреваю, что так же поступил бы и сам маэстро.
Хорошим подспорьем критику служит юмор. Он помогает ему справиться со своей задачей не напрямую и при этом написать заметку, которая доставляет удовольствие сама по себе. Но текст должен быть органичным — бесцельно упражняться в остроумии не стоит. Критики долго не осмеливались сказать ничего дурного о книгах Джеймса Миченера из-за их неумолимой серьезности, но в рецензии на «Соглашение» (Covenant) Джон Леонард атаковал писателя из засады, воспользовавшись обходным путем метафоры:
Джеймсу Миченеру надо отдать должное: он умеет изматывать. Он силой вынуждает вас сдаться. Его проза бредет по зрительному тракту с молчаливым упорством потерпевшей поражение армии, страница за страницей — и так без конца. Это Великий трек [15] Великий трек — переселение потомков голландских колонистов (буров) в центральные районы Южной Африки.
от банальности к набожности. Мозг читателя уподобляется южноафриканскому вельду после опустошительного набега Мзиликази [16] Мзиликази (Моселекатсе) — знаменитый африканский правитель.
или применения тактики выжженной земли, избранной британцами в Англо-бурской войне. Ни одна птица не подает голоса, и антилопы умирают от жажды.
И все же господин Миченер честен, как добротные башмаки. В «Соглашении» — так же, как и в «Гавайях» (Hawaii), и в «Столетии» (Centennial), и в «Чесапике» (Chesapeake), — он охватывает широкую перспективу: стартует с пятнадцатитысячелетней древности и финиширует в конце 1979 г. Он твердо намерен заставить нас понять Южную Африку, хотим мы того или нет. Как голландцы, на чью точку зрения он часто становится с мрачной решимостью беспристрастного наблюдателя, он упрям; ему тоже не страшна непогода; он будет гнать стадо фактов вперед, пока они не падут.
После трехсот страниц читатель — по крайней мере, один из них — уступает с покорным вздохом. Конечно, если мы собираемся провести неделю с книгой, пусть лучше она будет написана Прустом или Достоевским, а не сшита из справочных карточек Джеймсом Миченером. Но пути назад нет. Это не столько развлечение, сколько каторжный труд: наставник взгромоздился к нам на плечи и безжалостно погоняет нас кнутом. Может быть, знания пойдут нам на пользу.
И мы их получаем. Господин Миченер — не обманщик. Он заключил соглашение не с Господом Богом, а с энциклопедией. Если пятнадцать тысяч лет назад африканские бушмены пользовались отравленными стрелами, он опишет эти стрелы во всех подробностях и объяснит, откуда брался яд.
С чего следует начинать критическую статью? Вы должны сразу же сориентировать ваших читателей в том особом мире, куда они собираются вступить. Даже если они прекрасно образованы, надо сообщить или напомнить им некоторые факты. Нельзя просто бросить их в воду и рассчитывать, что они с легкостью поплывут. Воду нужно подогреть.
В случае литературной критики это необходимо вдвойне. Ведь столько уже позади; все писатели суть часть огромного потока независимо от того, плывут ли они по течению или изо всех сил с ним борются. В XX в. не было поэта более оригинального и влиятельного, нежели Томас Элиот. Однако его столетний юбилей в 1988 г. прошел удивительно тихо — об этом говорит в начале своего критического эссе в The New Yorker Синтия Озик, замечая, что сегодняшние студенты даже не представляют себе, каким «могучим пророком» казался этот автор представителям ее поколения: «В течение целой литературной эпохи Томас Элиот оставался в зените литературного небосвода — он был для нас настоящим колоссом, немеркнущим светилом, таким же постоянным, как солнце и луна».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу