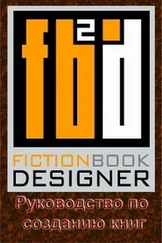Когда я впервые пришла в подготовительный класс, где надо было говорить по-английски, меня сковала немота. Эта немота — или стыд — до сих пор заставляет мой голос срываться, даже если я хочу всего лишь сказать «привет», или задать пустяковый вопрос кассиру в магазине, или попросить водителя автобуса назвать нужную остановку. Я вдруг коченею от ужаса…
В течение всего первого молчаливого года я не заговорила в школе ни с кем, не спрашивала разрешения выйти в туалет и прогуливала занятия в подготовительном классе. Моя сестра тоже ничего не говорила целых три года, молчала на переменах и во время ланча. В школе были и другие китайские девочки, не из нашей семьи, но большинство из них преодолели свою застенчивость раньше, чем мы. Мне нравилось молчать. Сначала мне просто не приходило в голову, что я должна с кем-то говорить и посещать все уроки, чтобы перейти в следующий класс. Дома я разговаривала с родными, а в школе — только с одной-двумя китаянками из моего класса. В остальном я ограничивалась жестами, иногда даже шутила. Когда вода перелилась через край моей игрушечной чашки, я отпила из блюдечка; все вокруг засмеялись и стали показывать на меня пальцем, так что я повторила свой жест. Я не знала, что американцы не пьют из блюдечек…
И только когда я обнаружила, что должна говорить, школа превратилась для меня в сплошной кошмар. Теперь я не просто молчала, но и страдала. Я не могла заговорить, и эта невозможность причиняла мне тяжкие муки. Однако в первом классе я попробовала читать вслух и услышала, как из моего горла доносится еле слышный шепот вперемежку с попискиванием. «Громче», — сказала учительница и этим спугнула мой едва прорезавшийся голос. Поскольку другие китаянки тоже молчали, я знала, что для китайской девочки это естественно.
Тот детский шепот превратился теперь в голос взрослой писательницы, чьи речи полны мудрости и юмора, и я рад, что этот голос звучит среди нас. Только благодаря американке китайского происхождения я смог почувствовать, каково это — быть маленькой китаянкой в американском подготовительном классе, обязанной вести себя там как американская девочка. Мемуары — один из способов осмыслить культурные различия, которые порой так болезненно ощущаются в будничной жизни сегодняшней Америки. Взгляните, как описывает поиски своей культурной самобытности Льюис Джонсон — правнук последнего официально признанного вождя племени потаватоми-оттава. Вот что он пишет в эссе «Моей дочери-индианке» (For My Indian Daughter):
Когда мне было тридцать пять или около того, я узнал об индейских советах, или совещаниях, которые называются «пау-вау». Их посещал мой отец, и вот, собираясь на одно из этих важных мероприятий, я с любопытством и странной радостью, сопровождающей открытие этой части своего наследия, решил попросить друга, чтобы он выковал мне копье у себя в кузнице. Прекрасная блестящая сталь отливала синевой. Гордо топорщились яркие перья на древке.
На пыльной ярмарочной площади в южной Индиане я нашел белых людей, одетых как индейцы. Я узнал, что это любители, которые в свободное время регулярно устраивают такие маскарады. Мне показалось, что с копьем я выгляжу нелепо, и я ушел.
Лишь спустя несколько лет я смог рассказать другим о смущении, которое меня тогда охватило, и осознать, что та ситуация была по-своему забавной. Но в каком-то смысле именно тот уик-энд, хоть и прошедший почти в полной тишине, и заставил меня очнуться. Я вдруг понял, что не знаю, кто я такой. У меня не было индейского имени. Я не знал индейского языка и индейских обычаев. Мне смутно помнилось, как на языке оттава будет «собака» — каги, но это было детское словцо, а не полное, мукаги — его я выучил позже. Еще более смутно мне вспоминалась церемония, во время которой я, еще младенец, получил имя. Я помнил танцующие вокруг меня ноги, пыль. Когда это было? Кем я тогда стал? « Суваукват , — сказала мне мать в ответ на мой вопрос. — Там, где дерево начинает расти».
Шел 1968 год, и я был в стране не единственным индейцем, захотевшим вспомнить, кто он такой. Были и другие. Они проводили настоящие пау-вау, и со временем я их отыскал. Мы вместе принялись исследовать свое прошлое, и для меня кульминацией этих поисков стал «Самый долгий путь», марш индейцев из Калифорнии в Вашингтон в 1978 году. Может быть, потому, что теперь я знаю, что такое быть индейцем, меня удивляет то, что другие этого не знают. Конечно, нас осталось не так уж много. Шансы на то, что обычный человек встретит обычного индейца на протяжении своей обычной жизни, весьма невелики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу