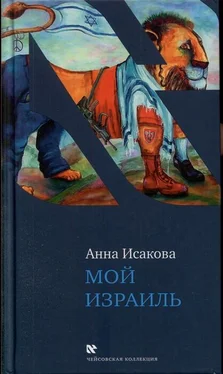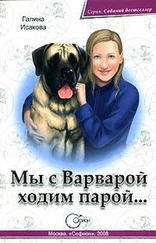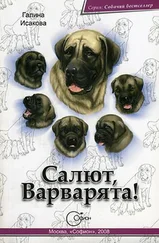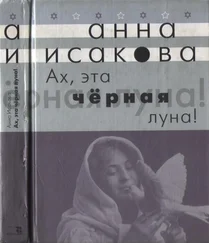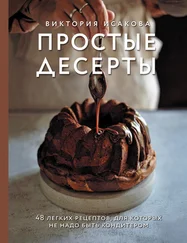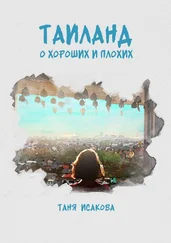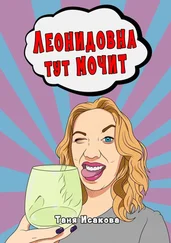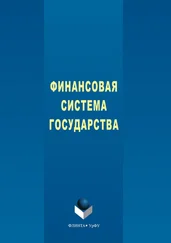Между тем люди, близко знавшие философа-парадоксалиста, говорят, что он был приятен в общении, внимателен к окружающим и со всеми любезен. И что, нарушая — только по мелочам! — святость субботы, притворно вздыхал и пенял окружающим за якобы именно ими «подставленные» соблазны. То есть был вполне человечен, даже слишком человечен. Не исключено, что вел он себя так в назидание Ницше, поскольку любое значимое явление, встречавшееся профессору на жизненном пути, служило ему поводом для оппозиции.
Сдвиг по фазе, или Мишель Пфайффер против «Садов Сахарова»
«Миррор», газетный трест, созданный газетным магнатом Максвеллом в начале девяностых годов прошлого века, решил выпускать еще и израильскую газету на русском языке. Я редактировала приложения. Дама, приставленная трестом давать советы, как составлять правильные субботние приложения на просвещенном Западе, сетовала на подбор материалов.
— Сколько можно писать об этом Сахарове, о тюрьмах и концлагерях! — орала она. — Поставь на обложку фотографию Мишель Пфайффер и найди в антикварном магазине хорошую старую поваренную книгу. Больше твоим читателям ничего не надо!
Моим читателям был нужен как раз Сахаров. Израиль заливал поток иммигрантов из распавшегося СССР. Они не знали и не хотели знать, кто такая Мишель Пфайффер, и им было не до кулинарных изысков. Часть бежала от прямой опасности — девяностые годы XX века не случайно именуют лихими, другая — от страха перед грядущей неизвестностью, которая по старому опыту грозила обернуться еще одним террором. Ничто, кроме оставленных в спешке родных пенат, уроков прежней жизни и способов устроиться в Израиле или хотя бы перебиться в ожидании лучших времен, этих людей не интересовало.
Покойный Андрей Дмитриевич Сахаров вроде бы уже не мог ничем помочь новым израильским русским (не путать с российскими «новыми русскими»), но именно его превратили в стяг борьбы за лучшее будущее. Не СНГ и не России, а «русской алии», которую многие «старые» израильские «русские» и все ивритские СМИ стали называть «колбасной», имея в виду материальный стимул этой иммиграции. В назидание вспоминали волну иммиграции из СССР семидесятых и восьмидесятых годов, которую теперь считали сионистской, а прежде называли алией «вилла-вольво». Опять же имея в виду очевидный материальный стимул: новым репатриантам тогда предлагали хибары на выселках провинциальных городов, да еще снимали с них налог на иномарки.
«Колбасная алия» организовалась быстро. Сказались диссидентская сноровка и чуть ли не генетическая российская воля к сопротивлению любой власти. Правда, на сей раз кукиш осмелились вытащить из кармана. Появилось общественное движение, впоследствии переросшее в этническую «русскую» партию. Эта партия и подняла имя Сахарова на щит, потребовав, чтобы в его честь назвали что-нибудь — если не город, то поселок, шоссе, улицу или бульвар, признав тем самым заслугу приехавших «русских» в падении ненавистного всему миру советского режима и их право на самоопределение в Израиле. Это желание претворилось в так называемые «Сады Сахарова» — запыленные кусты на каменистых отрогах при въезде в Иерусалим.
Сады не сады, на прогулку туда не пригласишь, зато водители автобусов по сто раз на дню объявляют: автобусная остановка «Ганей Сахаров». Большинству израильтян, родом не из бывшего СССР, это название ни о чем не говорит. Выпускай я журнал на иврите, статья об опальном академике не вызвала бы ни малейшего интереса, в отличие от фотографий Мишель Пфайффер неглиже или даже при полном параде. Объяснить такую разницу в мироощущении непросто. И новоприбывшие, и стародавние израильтяне четко ощущали несовпадение мироощущений, но причину этого явления объяснить не умели. Ни себе, ни друг другу.
Для взаимопонимания требовались не только взаимная осведомленность об опыте жизни, протекшей врозь, и нынешней вовсе не совместной жизни, но и умение разбираться в причинах и деталях тяжелого кризиса западной цивилизации, начавшегося в середине шестидесятых и достигшего к девяностым своего апогея. Сейчас этот кризис называют цивилизационной ломкой. Израиль тогда только-только вступил в фазу экономической вестернизации и культурной американизации. А Европа, не пожелавшая американизироваться, несмотря на план Маршалла, еще в семидесятых начала борьбу за культурную самостийность. Что вовсе не мешало той же Европе яростно стремиться к глобальному рынку и меркантильному либерализму, выгодному в основном США, уже отнявшим у европейцев технологическую и научную инициативу.
Читать дальше