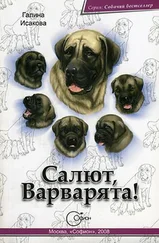Наставники в американизации стали занимать начальственные посты и задавать тон. В газете их было несколько, и они были очень эффективны, эти мальчики «Миррора» с опытом работы в американских СМИ. Они контролировали заголовки, подчиняя их правилам современного пиара, мало чем отличающегося от логики ярмарочных зазывал, и устанавливали жесткий диктат формы, при котором количество слов оставалось неизменным, даже если при этом менялся или терялся смысл написанного. Они же пытались задавать тематику публикаций, контролировать тон издания и усердно прививали журналистское умение соблюдать нейтралитет. Газета должна была быть сбалансированной.
Одни новые правила журналистской игры мне нравились, а другие вызывали раздражение. Погрузившись в исследование того, что называли по-английски «новой журналистикой», я выяснила, что она никак не связана ни с навязываемой желтизной, сулящей экономическую выгоду, ни с дурацкой псевдосбалансированностью, не позволяющей журналисту иметь собственную точку зрения. Еще я была за либерализм фон Мизеса и Мильтона Фридмана, но против либертанизма — жизни без правил и тормозов — и против политически корректного языка, погружавшего мир в пучину неприкрытого ханжества.
Эти сомнения и возражения были мной предъявлены ведущей фигуре тель-авивского «Миррора», редактору «Маарива» и создателю либеральной экономической газеты «Глобс», а одновременно и критику почти всех видов искусств Адаму Баруху. Он был выдающейся фигурой израильской богемы, этот Барух-Меир Розенблюм, родившийся в ультраортодоксальном районе Иерусалима Меа Шеарим, в добропорядочной и почтенной раввинской семье. Его дедом с материнской стороны был сам рабби Ицхак-Яков Вахтфогель, глава ешивы «Меа Шеарим» и главный судья (ав бейт а-дин) ашкеназской общины.
Поначалу ничто не предвещало превращения ешиве-бохера Баруха-Меира в богемного скандалиста, но превращение случилось. К моменту нашего знакомства Адам уже был знаменит — и скандалами, и ведущей позицией в журналистике, и бесшабашным поведением, и острым цепким умом, и хамским тоном при обращении к нижестоящим. По чести говоря, инициатива знакомства принадлежала не мне. Кому захочется лезть в пасть к такому зверю? Но Адам Барух считался нашим боссом, а боссов, как известно, не выбирают. Разговор происходил в его кабинете. Рабочее время уходило в состояние безвременья, за окном стояла ночь, а на столе перед Адамом — бутыль хорошего виски. Он слушал молча, периодически опустошая крышечку-стаканчик и наполняя ее вновь.
— Черт его знает! — сказал после того, как я излила душу и замолчала. — По-моему, вся эта новомодная чушь не стоит ни гроша, но нам придется через нее пройти, потому что ни у тебя, ни у меня не достанет сил встать у истории на пути. Лучше уж возглавить процесс, чем тащиться в хвосте. Так говорили древние. Ты знаешь древнюю историю? Вы, русские, все знаете. Вас хорошо учили. В еврейских ешивах тоже хорошо учат. А в израильских школах теперь учат плохо.
Услышать такое от одного из стержней израильского культурного истеблишмента — все равно что увидеть плачущего большевика. Израильтяне не позволяют себе сказать, что они в чем-то сомневаются. Возможно, знаменитая израильская «хуцпа», или «дерзость», прикрывает именно ощущение исторической необходимости защитить любые Фермопилы собственной грудью. Биографы Адама тоже отмечают его мрачное сомнение в правильности выбранного пути и разочарование в светском образе жизни. Но он считал, что был призван повернуть Израиль лицом к прогрессу, модернизации, вестернизации, пусть даже американизации, и был полон решимости наступить на горло собственной песне.
В конце того, первого, разговора Адам бросил мне через стол сборник советской фотографии 1920-1930-х годов.
— Найди таких фотографов, и слова будут не нужны. Фотографии всё скажут, — произнес с усмешечкой. — От слов толку мало. Небрежно подобранные слова всегда вранье. А эту дуру с ее Мишель Пфайффер не слушай. Я прикажу, чтобы она от тебя отстала. Печатай, что найдешь нужным.
С высоты моего, тогда уже почти тридцатилетнего, опыта жизни в Израиле, Адам Барух выглядел фигурой невероятной. Хотя бы потому, что ставил во главу угла сомнение во всем, справедливо полагая, что именно сомнение и есть современность. Постмодернизм, последнее слово в науке, промышленности, финансах и культуре, то, чего в израильском обществе пока нет, но обязано появиться. Вместе с тем он понимал, — возможно, только интуитивно, — что свобода выбора любой точки зрения требует защиты от хаоса, и защита эта — в формализме. Поэтому одной властной рукой Адам насаждал формализм всюду, где только мог, а другой рукой столь же рьяно бил по клавишам компьютера, сочиняя статьи, защищающие творческие свободы. Порой это звучало как издевка: требуя для одних своих творческих протеже полной свободы выбора, он нападал на их конкурентов, полностью отрицая за ними вольность инакомыслия.
Читать дальше