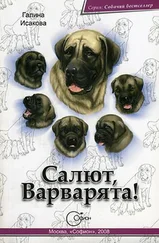Никаких шансов устранить это препятствие не было. Я пыталась объяснить, что даже если бы приверженцы идиша решились на демонстрацию протеста, они вряд ли собрали бы несколько сот человек, тогда как приверженцы других еврейских языков могут собрать огромные толпы. Моего собеседника этот аргумент не убедил. Он готов был сразиться за права идиша с любой инакомыслящей ратью. Мы говорили на иврите. Поняв, что вопрос закрыт, я неожиданно для собеседника попрощалась на идише и не стала оборачиваться, чтобы проверить его реакцию. Было невыносимо больно сознавать, что этот спор не имеет ни конца, ни смысла.
Случилось это в год моего прибытия в Израиль. Тетушка, измученная моим нытьем по поводу культурного голода, великодушно презентовала мне, голодающей, билет в филармонию. В свободной продаже этих билетов тогда было мало, да и обнаружься таковой, был бы он мне не по карману. В филармонию брали абонемент. Считался он привилегией аристократии кармана и духа в их неразрывном сочетании. Тетушка же, хоть и была небогата, предпочитала есть скромно, но в филармонию ходить, как на службу, и непременно в драматически пережившем войну жемчужном ошейнике.
Иврит я тогда еще совсем не знала. Прошла с опаской мимо контролера, словно он мог заподозрить подлог, после чего быстренько скользнула в зал и шлепнулась на привычное место в восьмом ряду. Слева, разумеется, чтобы видеть руки пианиста. На этом месте в Вильнюсской филармонии я просидела двадцать два года и не представляла себе иного музыкального ракурса. Думаю, что истосковалась я тогда не столько по классическому звуку, сколько по духу концерта классической музыки, и, попав в привычную обстановку, совсем потеряла голову. Шумок наполнявшегося зала, запах духов и шорох потревоженных конфетных оберток трансформировались во временной плюсквамперфектум, развернувшийся чередой приятных воспоминаний, которые стерли последние намеки на грубую реальность. Именно в этот счастливый момент возник передо мной пожилой мужчина с отеческой улыбкой в двадцать четыре лошадиных зуба.
Он чего-то от меня хотел и зачем-то показывал входной билет. Я протянула ему свой для рокировки. Мужчина вгляделся, пожал плечами, потом снова улыбнулся, но так сладко, что я была готова безропотно уступить ему место, если родственница что-то напутала и билет мой на другое число, например. А вдруг билеты в филармонию вообще не полагаются новым репатриантам, еще не начавшим выплачивать ипотечную ссуду? Кто его знает, какие тут порядки?! Но не успела я растерянно подняться, как мужчина усадил меня назад в кресло, нажав рукой на плечо. И ушел. Я проследила за ним до одного из последних рядов, потом потеряла из виду.
А в следующую пятницу во время семейного ужина увидала так понравившееся мне лицо на экране телевизора.
Выслушав мой рассказ, тетушка всполошилась. На экране телевизора обнажал в улыбке двадцать четыре зуба один из верховных израильских судей по имени Хаим Коэн. Тетушка этого господина судью терпеть не могла за его позицию в деле какого-то Кестнера, но и обожала, как обожают какого-нибудь рок-идола. Душу готова была ему отдать, ощущая при этом, что закладывает ее чуть ли не дьяволу. При этом она не забыла объяснить мне, что место в восьмом ряду слева было ей и мне не по чину и не по карману. Тетушкин абонемент имел в виду как раз тот ряд в конце зала, куда и отправился господин судья, решив безропотно поменяться со мной местами, чтобы не ломать кайф обалдевшей девице явно из новоприбывших и понятно из каких краев. С моей точки зрения, этот акт обозначил его как истинного европейца голубых кровей и того воспитания, какое давала своим избранникам фея-гувернантка Мэри Поппинс.
Тетушка подтвердила, что судья Хаим Коэн и впрямь истинный европеец голубых еврейских кровей. Он и сам не уставал гордиться своим происхождением и воспитанием. Происходил Коэн из столь знатного клана немецких раввинов и банкиров, что даже в самый разгар европейских войн и аншлюсов (речь идет о второй мировой войне), уже будучи адвокатом в подмандатной Палестине, а потом и израильским общественным и государственным деятелем, ухитрялся с большим блеском использовать родовые связи для установления особых отношений с американским, английским и общемировым политическим и научным истеблишментом.
Об этом он пишет свободно и даже несколько хвастливо в объемной автобиографии, названной «Маво иши». Прямой перевод означает «Личное введение», но из желания приблизить название книги к ее содержанию, я бы предпочла «Введение в личность». Хаим Коэн, эстет, эпикуреец, экзистенциалист, образчик израильского (правильнее — немецкого) либерализма и гуманизма, а в первую очередь — эгоцентрист и индивидуалист, тщательно культивировавший себя как особый бренд, отражающий идеальную израильскую личность, именно с таким намерением и писал это свое «Введение», пухлый том, без которого был бы непонятен его основной труд — «Лихьет йеуди» («Быть евреем»).
Читать дальше