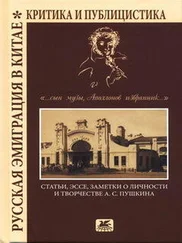— Прицел, совсем не сегодня возникший, отлично известный по прошлым векам.
— Оттого я и Пушкина процитировал, но другая была предыстория. К пушкинскому времени самоосознанная русская литература худо-бедно существовала уже лет около ста (я, не примериваясь к датам, прикинул), было и сформировавшееся, неизменяющееся положение в обществе, и представление о славе тоже отличалось резко. Слава Байрона — не слава Бродского, Байрон море переплыл, в Греции дрался, бог весть сколько женщин, вот это была слава. А литературная? Ну какая была у Сервантеса литературная слава?
— Очень большая. Вторую часть «Дон Кихота» ждали с огромным нетерпением и вытерпеть ожидания не могли, родилось продолжение, сработанное подражателем-умельцем, были пародии, толки и пересуды.
— И все же это не слава, в сегодняшних категориях говоря, какого-нибудь Айзека Стерна, она больше смахивает на известность…
— Согласен, ветераны сражения при Лепанто знали Сервантеса в боевом, не в писательском качестве.
— Бродит такой без руки и что-то выдумывает, как о Данте шептались — ну, этот побывал в аду, то есть скромная, по меркам современности, витает легендочка. Теперь все просто и прямо, ровнехонько как сказал, абсолютно не понимая смысла собственных слов, мой приятель, технический человек, работавший над технической книгой: «Я бестселлер пишу». «Бесселлер» — с двумя «с» и без «т» — пароль, ключевой термин литературной эпохи. Пропасть, по российскому обыкновению, преодолевается в два прыжка, и когда, чтобы сделать второй прыжок, отталкиваются от пустоты, тело сводит судорогой, что отражается на свойствах даже лучших вещей. Еще характерный сегодняшнего сочинительства штрих, приблизительно мною обозначаемый так: а вот я и это вам продемонстрирую вдобавок. Профессионально спланированная структура, все правильно, в порядке, на месте, героиня — слепая, герой — эротоман, чего еще желать и требовать, так нет же, давайте-ка я подпущу, что капель падала, как чирикала птица. И не важно, что это в двадцатые израсходовано, уложено в сундук, с тех пор ежегодно проветривается; или — Гоголем нам заповеданное лирическое отступление, уж я себя в нем покажу. Но я не жалуюсь, не ропщу, это мое время, время, в котором я оказался. И пусть накоплен самодостаточный запас прочитанного, с любопытством присматриваюсь к нынешней литературе, к журналам в том числе, где и сам печатаюсь. В «Новом мире» в одном номере с моими стихами была первая часть «Оправдания» Дмитрия Быкова, написано здорово, в дни моего детства и юности выражались — «сильно» (в данном случае не «сильно», а одаренно), но хотелось бы уяснить: либо, как в толстовском «После бала», человека насмерть загоняют палками, либо — нет, поскольку не бывает так, чтобы сначала насмерть загнали, а затем он бы сызнова здоровехонек появился. Значит, это надувные безобидные шары, которыми дети друг дружку небольно колотят.
Стараюсь следить за статьями критиков и не припомню, когда бы я с их мнением согласился, что вообще-то показатель скверный — не потому, что я брюзга и высокомерное старое чучело, а потому, что недурно бы критику писать так, чтобы я встрепенулся, взяв на заметку: о, это необходимо прочесть. На Западе обозреватель, выдавший ругательную рецензию, которая на читателей так повлияла, что те книгу перестали покупать (или, наоборот, грубо перехваливший ее), может нарваться, его обвинят в намеренном подрыве финансовых позиций издательства либо — второй вариант — в корыстном отстаивании интересов фирмы. Премию подчас дают совершеннейшей дряни, однако рецензенты не распинаются, будто наградили «Преступление и наказание», они со всею четкостью поведают, кто есть кто. Русские критики безответственны, в России критик пишет по схеме: я книгу прочитал и вот что я вам про себя расскажу (смеется).
— Приходится слышать, что декларирование либеральных ценностей стало в российской литературной среде занятием малопочтенным, сомнительным, чуть ли не смешным, ибо не соответствует нарождающейся атмосфере неоконсерватизма. Насколько справедливы эти слухи?
— Я уже не очень понимаю, какое содержание вкладывают в словосочетание «либеральные ценности», как не вполне ясен мне и смысл современного консерватизма… Со мной в молодости была такая история. После института работал я инженеришкой на химическом заводе, сначала в цеху, потом, после случившегося у нас отравления, перевели меня для поправки здоровья в технический отдел, начальник которого был человек грубоватый, без тонкостей. Инженером я был плохим и, как почти всякий, кто плох, хотел доказать, что кое-что умею — такие-то нормы заложил и такие. И вот я в третий раз об этом начальнику сообщил, и он сквозь зубы хмуро процедил: «Чего заложишь, то и вытащишь». Острота немудреная, а приложима ко многому. Что составляет подтекст суждений об исчерпанности либеральных ценностей? Боязнь или неумение сказать так, чтобы это по-настоящему другого задело, чтобы «отозвались душевные струны». Если ты закладываешь в свой текст сарказм, скептицизм, снобизм, то ты их и вытащишь — «с иронией у него хорошо», одобрят тебя по заслугам. Если же ты напишешь: «Она ушла, я ломал руки», то рискуешь либо получить отзыв душевных струн, и вокруг воскликнут — давно мы не слыхали ничего подобного, где этот автор, мы хотим его видеть, обнять, либо тебя обвинят в дешевой, пятикопеечной мелодраме. Опасаясь быть оцененным в пять копеек, автор прячется в скепсис, в сарказм, но без чувства не выиграешь, цели не достигнешь, гола не забьешь! Гол и так в редчайших лишь случаях забивают, скепсис же и цинизм перекроют путь напрочь. Примеров опровергающих не сыскать. «Тропик Рака» Генри Миллера — трогательнейшая вещь, причем трогательность ее наподобие той, что в «Колымских рассказах»: люди поставлены вне жизни и там живут. И в Селине это присутствует, и в Жане Жене. Никуда от этого не уйти!
Читать дальше
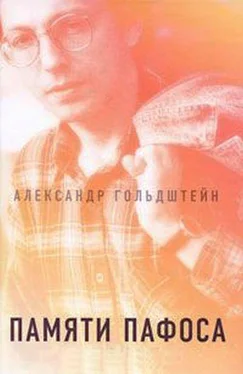




![Петр Киле - Опыты по эстетике классических эпох. [Статьи и эссе]](/books/185077/petr-kile-opyty-po-estetike-klassicheskih-epoh-st-thumb.webp)
![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](/books/185942/petr-kile-estetika-renessansa-stati-i-esse-thumb.webp)