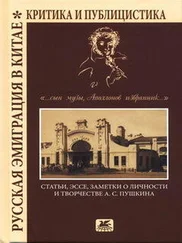— Советское время, изображенное вами со всеми его гадостями, обладало, сдается, тем преимуществом, что накопило в себе огромный воспоминательный потенциал. Этот период легко перекладывался в мемуар, в нем действовала какая-то мощнейшая внутренняя сила, транспонировавшая события в слово памяти, — оттого советское время было значительным, историческим. В какой мере новая российская эпоха насыщена этим качеством или оно исчезло из русского мира?
— У меня немного другое к этому отношение. На протяжении лет двенадцати, приблизительно с момента выхода «Ахматовой», я безуспешно, с некоторым жалким вызовом повторяю, что мемуаров еще не писал. И это правда, поскольку та проза, что теперь для удобства называется мемуарной, есть проза не вспоминания, а — понимания, проза о том, что ты понимаешь и знаешь. Механизм жизни устроен так же: нечто произошло — предположим, фрагмент биографии, и по прошествии долгих сроков он становится фрагментом судьбы. У кого-то превращения не происходит, ибо человек не осознает свою жизнь как судьбу, да и осознание — это штука опасная, порой такое наворотишь, в такие себя впаришь рамки… Мы нередко с этим сталкиваемся, когда люди делают неверные выводы из случившегося. Снова скажу, что проза, применительно к которой вы употребили эпитет «мемуарная», для меня — понимательная, жанр, сложившийся в русской литературе в XIX веке. Собственно, как мы определим жанр «Былого и дум», произведения, высоко мною ценимого? Я обозначил бы его так: «былое и думы», только «думы» сегодня слово скомпрометированное, как в том анекдоте — «не выпендривайся», а «былое и мысли», «былое и рассуждения» звучат нормально, слух не коробят. У меня нет претензий к критикам, твердящим о мемуарной литературе, но это неправильно в корне, «Опыты» Монтеня уж точно не по разряду воспоминаний идут, тут перед нами самозаконный повествовательный вид, и наступают времена, отмеченные жадным вниманием к нему публики. Мне задают вопрос, а где же, мол, у тебя выдумка, фикшн? А фикшн — в вещах, о которых я пишу, не такой уж я простец, чтобы писать о доподлинно бывшем.
— Я спровоцировал вас нарочно, ничуть не собираясь отрицать художественно-романическую принадлежность ваших книг…
— Ну да, ну да… Очень часто упрекают: неужели ты, изобразивший некое событие, не помнишь, что я тогда-то тоже присутствовал? Во-первых, отвечу, твоего «тогда-то» у меня не было, у меня было другое «тогда-то», во-вторых, даже если мы совпадем, я все равно пишу не об этом, но о том, что мною владеет и меня ведет — не я, а текст диктует, чему появиться, персонажу ли, положению ли, сюжетной развязке. Манера моя, раз уж приходится открывать карты, примерно такова, что я описываю обыденный эпизод, в правдоподобности коего подозрения не закрадываются — чего ради, полагает публика, стал бы автор придумывать эти совсем не захватывающие вещи, и когда читатель начинает мне верить, вмешиваю какую-нибудь вымышленную линию и веду ее до тех пор, пока в читающем не возникнет проблеск сомнения; в этот момент я опять уверяю его, что все было так, как мною рассказано, облачный день, температура двадцать градусов — чтобы в следующем периоде, на очередной странице иметь руки развязанными. Учтите, что сплошь и рядом я считаю невозможным дать настоящее имя человека, находящегося в центре какой-либо истории, хотя, признаюсь, столкнулся и с неожиданным поворотом. Слушай, говорит мне как-то знакомый, ведь это ты обо мне написал, что ж ты фамилию не назвал? Но герой выглядит в тексте смешным. Какая разница, он возражает, надо было привести непременно, я за любую правду стою — знакомый этот, что называется, искал известности. Или еще более яркая ситуация: как-то Годар сказал интервьюеру, что человека талантливого видно по всему и бездарного видно по всему. Вон, кивнул Годар в сторону одного режиссера, он даже кефир пьет бездарно, и такой же у него фильм. Режиссер этот был приятелем интервьюера, который и передал ему этот отзыв, прибавив, что фамилию его, разумеется, уберет; да ты что, возмутился тот, оставь, конечно, а когда у него в дальнейшем интересовались, знает ли он, как его обозвали, с презрением отмахивался — чепуха, это все Сашка, интервьюер то есть, присочинил. Ему было важно, что в истории этой Годар фигурирует… Единственное, чего я избегаю, — делать из двух людей одного, это, по-моему, аморально, даже если дело касается чистой беллетристики, аморально с писательской точки зрения.
Читать дальше
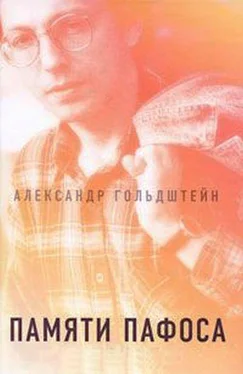




![Петр Киле - Опыты по эстетике классических эпох. [Статьи и эссе]](/books/185077/petr-kile-opyty-po-estetike-klassicheskih-epoh-st-thumb.webp)
![Пётр Киле - Эстетика Ренессанса [Статьи и эссе]](/books/185942/petr-kile-estetika-renessansa-stati-i-esse-thumb.webp)