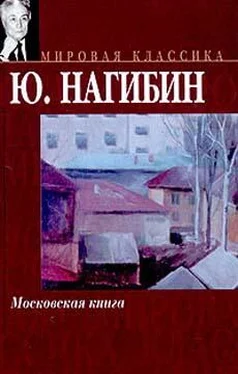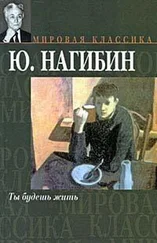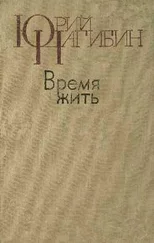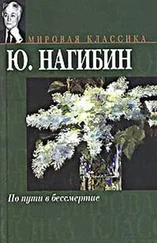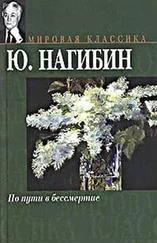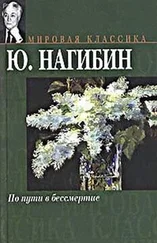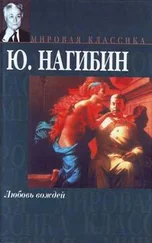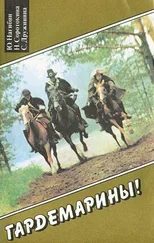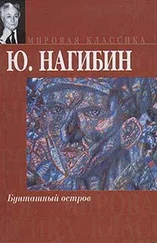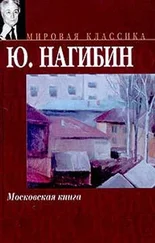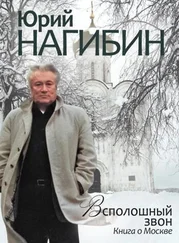Там помещалась китайская прачечная, и клубы пара, то и дело вырывавшиеся из дверей, окутывали фасад пухлым белым облаком, мешавшим проглянуть его красоту. Немало часов просидел я на косой каменной тумбе, отмечавшей с переулка въезд в наш двор, томясь загадочностью чужой непонятной жизни. Вдруг — всегда вдруг — из дома выбегал узкий и легкий телом китаец с седым бобриком волос и худым лицом, обтянутым по лбу, скулам и вискам такой тонкой восковистой кожей, что казалось, она вот-вот лопнет. С уголков рта у него свисало по крысиному хвостику, а с подбородка — несколько длинных толстых волос. Он держал у плеча на ладони левой руки, согнутой в локте, сверток в тонкой розовой бумаге. Прежде чем перейти улицу, он по-птичьи, толчками, поворачивал голову направо и налево, удостоверяясь в безопасности пространства. Затем устремлялся вперед, быстро семеня прямыми, как палки, ногами. Он прошмыгивал мимо меня в своей темной легкой одежде — широкие штаны, рубашка балахоном — и скрывался в сумраке подворотни, куда не проникали солнечные лучи. Меня задевал ветерок, рожденный его близким проскользом, и несколько мгновений звучала тихая музыка — колокольчики, нежный мелодичный перезвон, который я действительно слышал ушами, а не творил внутри себя. Китаец уже давно скрылся, а темное волнение не затихало во мне, странные, неясные, печальные образы возникали и таяли, не позволяя вглядеться в себя и назвать словами, единственно дающими власть над явлениями и грезами…
Вечером в прачечную приходила большая, как карусель, и такая же нарядная, вся в лентах, бусах и ярких тряпицах, молодая китаянка, увешанная с головы до крошечных ног бумажными фонариками, веерами, трещотками, летающими рыбами, драконами, причудливыми игрушками из сухой гофрированной бумаги. Ах, эти ноги со ступнями-обрубками, я не мог к ним привыкнуть! И ведь я догадывался, что китаянка не испытывает страданий, и даже как-то смутно знал, что ноги у нее не обрублены, а воспитаны в детстве тугими пеленами, и все же лучше было не смотреть вниз. Я прилипал взглядом к ее круглому, с подрисованными бровями, неподвижно-нарядному кукольному лицу. Китаянка с трудом протискивалась в маленькую дверь.
Мне представлялось, что, оставив свои лохани с хрустальной пеной, каталки и утюги, китайцы зажигают цветные фонарики, раскрывают нарядные веера и начинают тихо, чинно, плавно танцевать под сладкозвучье колокольчиков и трещоток с непременной кровавой капелькой сургуча на деревянной ручке, а в парком, влажном воздухе реют летающие рыбы, преследуемые драконами…
Прачечная давно закрыта, китайцы уехали стирать к себе на родину, а дом, посвежевший и поюневший, будто распрямился, одаривая своей нарядностью два переулка: Сверчков и Девяткин.
Сверчков не долго радовал нас. Там началась вырубка старых садов. В предсмертной тоске, шумя ветвями и листвой, падали под пилами и топорами вековые дубы, могучие вязы, ясени, дивные клены, уничтожались сирени, жасмины, ракиты. На пустырях возникали строительные площадки. Но хилые городские деревца, которыми так щедро обсажены московские улицы, добывают из-под асфальта слишком коротенькую, чахлую жизнь своими бедными корнями, они поздно зацветают, рано желтеют, облетают и очень мало дают для оздоровления спертого городского воздуха. По-настоящему освежают город лишь растительные массивы — сады и парки.
Нашему крылу дома сказочно повезло. Запертые на замок с дней революции, открылись парадные двери, и мы получили выход в тихий, задумчивый, не тронутый школьным строительством Телеграфный переулок.
Он обстроен высокими, добротными доходными домами, есть там и несколько приземистых одноэтажных зданий XVIII века — приспособленные под жилье конюшни, но главным его сокровищем была и осталась знаменитая бело-розовая Меншикова башня, как издавна прозвали в народе храм Архангела Гавриила, приютившая у своего подножия скромную церковь Федора Стратилата. Башню возвел в 1705–1707 годах по повелению царского фаворита лучший московский зодчий той поры Иван Зарудный, первый художественный цензор России. Церковь построил на век позже любимый ученик Матвея Казакова И. Еготов…
Жизнь увела меня от места моего начала. Мы переехали в один из тихих арбатских переулков, и Москва открылась мне, уже юноше, иной прелестью. Там, в первом мире, царили XVII–XVIII века. В своем рассказе я несколько сузил пространство детства, оно не замыкалось в Чистопрудных переулках, было шире, охватистее. И расширялось оно преимущественно в одну сторону, совпадающую с изначальным направлением роста Москвы: Покровка — Басманная — Разгуляй — Елоховская. Москва тянулась за царевым путем из Кремля в подмосковные вотчины: Покровское, Измайлово и Преображенское. И я тянулся туда же, ибо у Покровских Ворот находилась моя школа, на Басманной — Дом пионеров, у Разгуляя — футбольное поле, на Елоховской — поликлиника, а в Лефортове — площадка для военной игры. Я следовал за царем Алексеем до Немецкой улицы, здесь наши пути расходились: царский возок двигался прямиком, я же отваливал вправо, к Лефортову.
Читать дальше