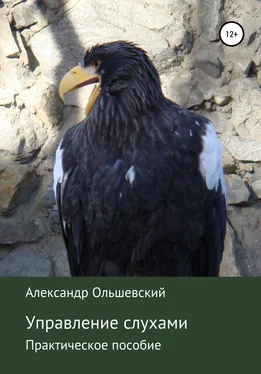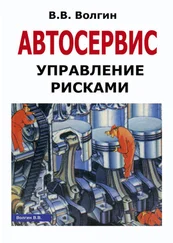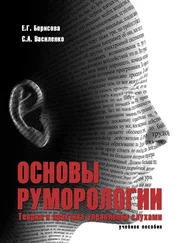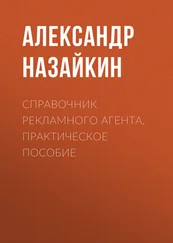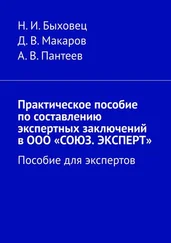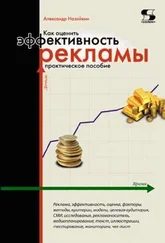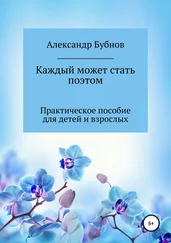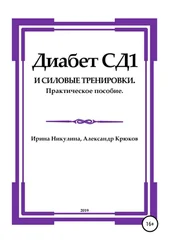Детально вникать в механизмы, используемые при этом госорганами, здесь не станем – тех, кому это требуется по роду работы, и так соответствующим образом обучат, а тем, у кого задачи более прозаические, пользы это все равно не принесет.
Укажем лишь, что наиболее распространенные формы слухов от госорганов идентифицировать проще всего: это так называемые «утечки» . Обычно это довольно крупный блок информации с рядом мелких деталей и подробностей, передаваемый со ссылкой на происхождение из недр некоего ведомства или расплывчатых «госструктур» в целом. Часто такие блоки вбрасывают также «околовластные эксперты» – которые, казалось бы, вообще непонятно чем занимаются, однако делятся такими сведениями «из самых недр», каких не услышать ни от кого из официальных лиц, и, если задуматься, то сложно даже представить, где они все это взяли. Откуда, например, может быть в курсе какой-то «аналитик» или «политолог» по поводу того, когда пойдет на спад пандемия, каких кулуарных договоренностей достигают главы государств или когда выступит с неким заявлением тот или иной зарубежный деятель?
Еще один явный признак – то, что используемым источникам вбросов от государственных органов сложно избежать искушения упростить себе задачу, злоупотребив возможностями своей «околовластности» . Поэтому порой они комбинируют технологии, и вместо того, чтобы честно отрабатывать нужный вброс через неформальную коммуникацию, для экономии времени и сил «в лоб» озвучивают его еще и, допустим, в своих же интервью для СМИ.
Однако классический вариант, без перегибов – это история, когда некий знакомый делится информацией, полученной от своего знакомого, родственник которого работает, допустим, «в спецслужбах» или вахтером в одном из управлений АП, поскольку узнал от него, например, о планируемой деноминации, введении нового налога, вводе войск на территорию всех соседних стран, подорожании гречки или запрете на содержание хомячков в квартирах площадью менее 2000 кв.м.
В целом, концепция грубоватая, но действенная: внимание к вбросу обеспечивается за счет устойчивой легенды о том, что эту информацию государство тщательно скрывало (то есть, эксплуатации распространенной веры в теории заговора и в то, что государство скрывает от граждан очень многое), однако она случайно утекла в силу чьей-то халатности или разгильдяйства (тоже распространенный стереотип), и в действительности получателю вброса повезло узнать то, что для него предназначено не было.
Вне решения государственных задач, технологии управления слухами несколько иные, влекут меньше затрат, и уже не опираются на « авторитетность» и « компетентность» предполагаемого первоисточника, как и на его «околовластный» характер.
Первыми их поставили на поток еще в 1990-е крупные политические партии и движения, для нужд политической пропаганды и сопровождения избирательных кампаний. Первоначально, определялась целевая аудитория, разбивалась на профильные группы (по профессиональному, возрастному и другим признакам), затем выделялись лица, способные оказывать влияние на мнения и настроения каждой из выделенных групп (так называемые «лидеры мнений» ). С этими лицами проводилась адресная работа, их старались всеми силами привлечь на свою сторону, а нередко – просто заплатить, задобрить подарком или услугой. Затем им давалась требуемая информация, оценочная или поведенческая установка, а также дополнительные стимулы к ее распространению. При грамотной постановке дела, работа с этим кругом лиц велась непрерывно.
Система передачи была простой: от реального заказчика (возможно, с использованием внешних PR-специалистов в качестве посредников) к «лидерам мнений» (параллельно со стимулом, преимущественно материальным), затем уже в сами целевые группы, воспринимающие «лидеров мнений» в качестве авторитета. До последних звеньев цепочки нужные сведения доходили уже через посредство «лидеров мнений» более низкого порядка.
Это особенно успешно работало с наиболее голосующей частью избирателей – пенсионерами. Группировка здесь происходила просто: наиболее политически активная часть пенсионеров располагалась во дворах на скамеечках, где обсуждала текущую ситуацию и «перемывала кости» окружающим. Соответственно, на каждой такой скамеечке были свои «лидеры мнений» – более активные и информированные, более напористые. Создать материальный стимул для каждого «локального лидера» было и дорого, и проблематично с организационной стороны; поэтому обращали внимание на самую активную часть пенсионеров, группируемую во всевозможные советы ветеранов, сообщества. Руководители таких сообществ и получали материальное стимулирование, а затем уже сами запускали нужную информацию в работу.
Читать дальше