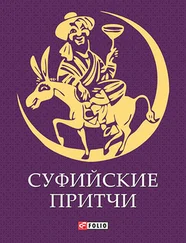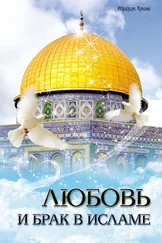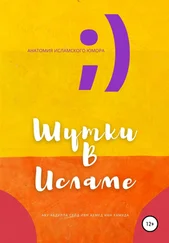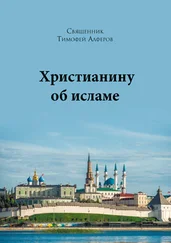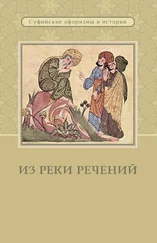Дж Тримингэм - Суфийские ордены в исламе
Здесь есть возможность читать онлайн «Дж Тримингэм - Суфийские ордены в исламе» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Религия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Суфийские ордены в исламе
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Суфийские ордены в исламе: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Суфийские ордены в исламе»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Суфийские ордены в исламе — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Суфийские ордены в исламе», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Возникновение второй школы связано с деятельностью другого персидского мистика - Абу-л-Касима Джунайда ал-Багдади (ум. 910). Его учение признает в принципе положение школы "опьянения" о полном растворении личности мистика в Божестве, когда потеряны все личностные характеристики, отпали эмоции и реакции. Однако это состояние (фана) Джунайд считал лишь промежуточной фазой, поскольку, по его мнению, мистик обязан идти дальше, к состоянию "трезвости", в котором его духовное познание Божества могло бы трансформировать его в более современное человеческое существо (бака), наделенное всей полнотой самообладания и контроля над своими экстатическими видениями, которое вернулось бы в мир обновленным, наделенным Богом миссией просвещать людей и служить на благо человеческому сообществу. Эта школа получила название школы "трезвости" (сахв), т. е. основанной на трезвом, критическом отношении к своим эмоциям и полном контроле над ними. Представители нормативного ислама считали взгляды этой школы умеренными и вполне терпимыми.
История суфизма показывает, что в дальнейшем подавляющее число многочисленных суфийских братств придерживалось с разной степенью вариативности идей или концепций одной из двух указанных выше школ, а через их основателей возводило свою духовную генеалогию (силсила) к Мухаммаду.
Однако Дж. С. Тримингэм, часто говоря о социальном составе мистических братств (по его терминологии - орденов, об этом см. далее), так и не поставил чрезвычайно важного для любого движения вопроса о его социальных корнях12. Видимо, можно считать установленным, что основной социальной базой суфизма (начиная по крайней мере с середины Х в.13) служили бедные, малообеспеченные и средние городские слои: торговцы, купечество, ремесленники, чиновники, низшее духовенство, студенты конфессиональных училищ, из чьих кругов рекрутировались ученики-послушники (мурид) сначала суфийских проповедников-учителей, а в дальнейшем суфийских братств. Как справедливо отмечал Е. Э. Бертельс, "аскетическое движение первоначально имело выраженно демократическую установку и в значительной степени сохранило ее в дальнейшем"14. Без сомнения, эта черта движения суфиев составляла ту притягательную силу, которая, согласно многочисленным арабским и персидским агиографическим сочинениям, постоянно привлекала к себе симпатии значительной части общества.
Почти все специалисты отмечают, что суфийские общины имели тесные связи с ремесленными кругами города, в том числе с "тайными организациями ремесленников" (футувва)15. Однако до сих пор неясно, как и в чем эти связи конкретно проявлялись и выражались (хотя предположений и гипотез на этот счет бытует немало). Что касается футуввы как "тайной организации ремесленников", то ее существование во второй половине XII в. - факт бесспорный. Но в более ранний период (X-XI вв.) следы деятельности и тем более влияния этой организации не прослеживаются. Следует заметить, что аристократическая футувва (во всяком случае, на востоке Ирана), окрашенная военизированными идеалами земельных собственников-дихкан, никогда не совпадала по своим побудительным мотивам с движением мистиков, но вместе с тем и не выступала против него. Оба движения сосуществовали16.
Ряд исследователей, включая Дж. С. Тримингэма, считает, что определенное влияние на становление организационных форм мистицизма братств оказало мусульманское ремесленное профессиональное объединение, отдаленно напоминавшее по своей структуре и функциям европейские ремесленные цехи или гильдии. С этим трудно согласиться, поскольку корпоративные объединения ремесленников по профессиональному признаку появляются на Ближнем Востоке в первой трети XIV в., а суфийские братства в конце XII в. Но такое влияние могли оказывать на братства структура и ритуал тайной ремесленной футуввы или, возможно, фискальных организаций ремесленников, создаваемых властями для облегчения распределения и сбора налогов17. Тесная связь, которая прослеживается между суфийскими общинами, обителями, а впоследствии и братствами, с одной стороны, и ремесленными и купеческо-торговыми объединениями - с другой, создавала суфиям социальную опору в массах и материальные субсидии. В то же время суфии (как отдельные представители, так и суфийские организации) обеспечивали поддержку и покровительство ремесленникам и купцам, что было для последних весьма существенным18. Эти контакты в зависимости от места и времени могли быть сильнее или слабее, но, видимо, не прерывались на протяжении многих веков (вплоть до XX в.). Таким образом, можно говорить о том, что суфизм в известной степени стал идеологией, отражавшей настроения средних и бедных городских слоев. Однако следует отметить, что эта тенденция прослеживается не на всех этапах эволюции суфизма и несинхронно проявляется в различных регионах мусульманского мира.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Суфийские ордены в исламе»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Суфийские ордены в исламе» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Суфийские ордены в исламе» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.