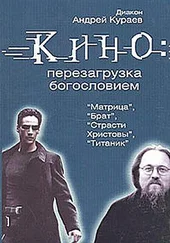Но восточные отцы разработали иной путь осмысления таинства спасения — не “юридический”, а “органический”. Вот как он выражается новомучеником архиеп. Иларионом (Троицким): “В раю люди согрешили. Их грех состоял в непослушании воле Божией, то есть в утверждении своей воли, в своеволии. Человек отвернулся от Бога, злоупотребив свободой. Грех — не преступление, не оскорбление Бога. Это болезнь и несчастье человека. Созданный в нетление и блаженство, человек мог оставаться таким лишь осуществляя волю Божию. А нарушение этого основного закона бытия имело непосредственным следствием извращение естества человеческого. Грех был потерей духовного здоровья. Человек подпал тлению, смерти и страданию. Первоначальное состояние человека само в себе носило источник блаженства. Искаженное естество само в себе получило источник страдания. От этого страдания и нужно было человека исцелить, спасти. Дело не в прощении греха и не в удовлетворении оскорбленного Бога, а в исцелении самого человека и в возвращении ему первобытного блаженства. Сам больной себя исцелить не мог… Реальным единством человечества объясняется переход Адамова греха на ветхозаветного человека. Тем же единством объясняется спасение всех во Христе. Не долги здесь перекладываются с одного на другого, но самое естество человеческое изменяется. Человечество получает новые силы. Восстановляется изначальная красота нашего естества. Начинается новое бытие. Не судится Бог с человеком на Голгофе, не самоудовлетворяется казнью Сына, но сретает и радостно лобызает возвращающегося блудного несчастного сына… Все это произошло не потому, что “заплачены” наши долги, понесено намеченное нам наказание, а потому, что от самого единения естеств в Лице Христа мы действительно стали иными. При первом творении Бог вдунул в Адама дыхание жизни и стал Адам душою живою. То же и при новом творении. Носиму дыханию бурну, сошел на апостолов и дарован был всей Церкви Дух Божий, Который стал источником новой, благодатной жизни. Дело спасения, совершенное Христом, полагается в основание новой нравственной жизни человечества — в Церкви. Если человек был болен, то теперь он исцелен и восстановляется его духовное здоровье… Мне думается, что без юридического элемента вполне можно обойтись и в области вероучения, и в области нравоучения”15.
Однако официальный учебник богословия — “Догматика” митрополита Макария была написана на языке “юридизма”. И потому возвращение к досхоластической поре православного богословствования (начавшееся, в частности, в трудах славянофилов, архиепископа Сергия (Страгородского) и архиепископа Антония [Храповицкого]) некоторыми воспринималось как отход от Православия (хотя это был всего лишь отход от привычного им облика Православия, к сожалению, подкрашенного и искаженного западными влияниями)16. Как говорил архиепископ Иларион, “у нас еще и теперь немало охотников клеймить “либерализмом” и даже “неметчиной” все, что несогласно с Макарием!”17.
Вот и священник Петр Андриевский счел за эталон православия макариевскую “Догматику” и все, что хоть как-то отличается от нее, объявляет ересью. У него хватило и дерзости, и последовательности, чтобы обличить привидевшиеся ему “еретические басни” в богословском наследии архиепископа Илариона (Троицкого), вопрос о прославлении которого в лике святых, по сути, уже решен: “Особенно следует остановиться на религиозных представлениях архиепископа Илариона (Троицкого), который в свое время выступал непримиримым антагонистом митрополита Макария, обвиняя последнего в схоластике и католицизме. Это и неудивительно. Ибо “Богословие” митрополита Макария, пронизанное святоотеческим духом, убедительнейшим образом обличало его, архиепископа Илариона, еретические басни, что грех нашего праотца Адама — не преступление, делающее грешника виновным пред лицо правды Божией. Грех, по архиепископу Илариону, — это болезнь и несчастье человека”18.
А ведь еще Алексей Хомяков говорил, что “Макарий провонял схоластикой”19. Весьма сдержанным было отношение к этой книге святителя Филарета Московского: “Отдавая должное тщательности проделанной митрополитом Макарием работы, критики единогласно отмечали отсутствие в книге идейной цельности и определенности в изложении учения. Это была добросовестная компиляция, но при этом безжизненная и лишенная религиозного зерна. Труд митрополита Макария, волею обстоятельств остававшийся важнейшей теологической суммой XIX столетия, на деле представлял из себя плод творчества бюрократа и полностью диссонировал с выходившим уже тогда “Добротолюбием”. Своим молчанием митрополит Филарет выразил неодобрение макариеву “Богословию”, и только после его смерти сокращенный вариант книги был издан для употребления в семинариях”20.
Читать дальше