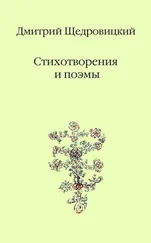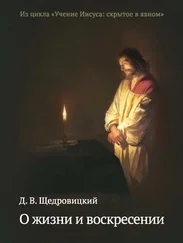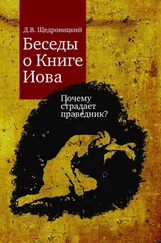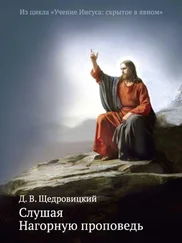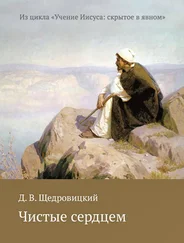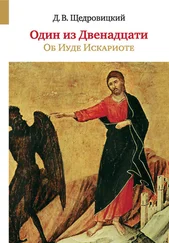Остановимся еще на следующем высказывании Иова:
... Так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего.
О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне!
Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. (Иов. 14, 12-14)
Стих 12 свидетельствует о сомнении Иова в том, что человек возвратится к земному существованию «до скончания неба»; однако эти слова можно сравнить с его же высказыванием о «возвращении во чрево матери» (Иов. 1, 21), т. е. о перевоплощении души. О неуверенности Иова в данном вопросе, о его колебании свидетельствуют и полные сомнения слова:
Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?.. (Иов. 14, 14)
А о вере (хотя и нетвердой) в возможность возвращения из преисподней говорит его пожелание:
О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне! (Иов. 14, 13)
Здесь определенно выражается надежда, что после временного наказания в Шеоле последует «выход» из этой загробной темницы и возврат к земной жизни. А соразмерность наказания такого рода земным преступлениям отражена в упоминаниях о «свитке», содержащем запись «беззакония», и о «покрытии вины» путем посмертной кары:
... В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и Ты закрыл бы вину мою. (Иов. 14, 17)
О состоянии грешника после смерти Иов, однако, говорит и более определенно:
... Вода стирает камни; разлив ее смывает земную пыль: так и надежду человека Ты уничтожаешь.
Теснишь его до конца, и он уходит; изменяешь ему лицо и отсылаешь его.
В чести ли дети его – он не знает, унижены ли – он не замечает;
Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. (Иов. 14, 19-22)
Здесь явственно подчеркиваются два факта: с одной стороны, телесная смерть человека-грешника («надежду человека... Ты уничтожаешь... теснишь его до конца... отсылаешь его»); а с другой – сохранение им способности испытывать мучения в Шеоле, имеющие не только духовную природу, но и подобие физической:
... Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. (Иов. 14, 22)
– ср. в Евангелии о мучающихся в геенне, хотя и «бестелесных»: «И в аде, будучи в муках. возопив, сказал: .я мучаюсь в пламени сем» (Лук. 16, 23-24); также следующее: «... где червь их не умирает и огонь не угасает» (Марк. 9, 44; ср. также о червях – Ис. 14, 11, а об огне – Ис. 1, 31).
В другом месте своих речей Иов утверждает, что, умирая, отойдет «в путь невозвратный» (16, 22). О его колебаниях относительно возможности возвращения к земной жизни после смерти мы уже упоминали; они слышатся и здесь. Однако подчеркнем, что представление об уходе в «царство мертвых» как о безвозвратной дороге отнюдь не свидетельствует о вере в «окончательное умирание», когда душа лишается возможности помнить, мыслить и чувствовать. Здесь говорится лишь о невозможности для нее вернуться на землю.
Сказанное относится и к следующему стиху – о надежде Иова:
В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе. (Иов. 17, 16)
Именно земная надежда Иова – на исправление его обстоятельств, улучшение земной жизни – может оказаться неосуществимой; однако сам Иов окажется в том самом Шеоле, о пребывании в котором мы уже сказали достаточно.
Зададим вопрос: есть ли в Писании какие-либо еще свидетельства того, что человек может жить неоднократно? Что происходящее в этой жизни с каждым из нас может быть не началом и не концом, а «средним звеном» событий, исток которых – в прежних существованиях, продолжение – в будущих? То, что «сюжет» нашего земного бытия найдет завершение в будущей жизни, подтвердит любой верующий, зная, что тогда наступит срок воздаяния, будет суд Божий. А вот события, предшествовавшие данному бытию, для большинства неведомы и непостижимы. Так что же говорит на этот счет Писание?
Как только такой вопрос задается всерьез, мы быстро и с удивлением обнаруживаем, что Писание во многих местах рассматривает и греховность человека, и его праведность в качестве чего-то заложенного изначально, словно бы один человек приходит в наш мир уже предрасположенным ко греху, в то время как другой – к праведности, к дальнейшему очищению и восхождению. Можно ли найти объяснение этому в учении о первородном грехе? Не противоречит ли столь разное состояние душ, приходящих в земной мир, той доктрине, согласно которой все люди в равной мере наследуют Адамов грех? Неужели может один человек в большей степени унаследовать грех Адама (и, следовательно, наказание за него), чем другой?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу