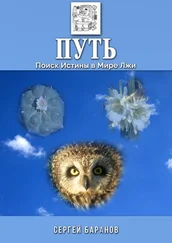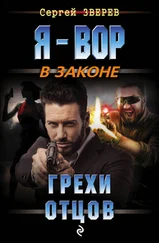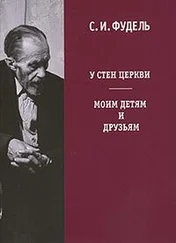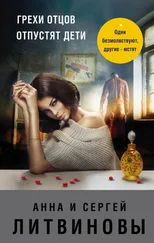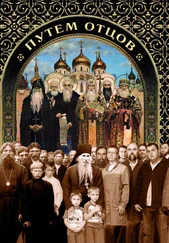Учением о воскресении тела наполнена вся святоотеческая письменность, так как отказ от него, или умаление его в иллюзорность, означает отказ от воскресения Христова и, тем самым, от Его Голгофы, от Его страданий, от Его крови. Если не будет воскресения тел, или оно аллегорично, то такой же аллегорией было не только воскресение Господа, но и те капли крови, которые стекали на Его лицо. А Отцы–подвижники скорее отказались бы от своего бессмертия, чем от того, чтобы о них забыть. Прильпни язык мой гортани моему, аще забуду тебе, Иерусалиме .(Пс. CXXXVI, 6, 5).
Реальность любви человека к его распятому Богу сметает с пути своего всю демонскую ложь о призрачности или аллегоричности как Голгофы, так и Воскресения. На них — действительно бывших «человек утверждает и себя самого, и тоже не призрачного, а живого, единственного и реального, страдающего в подвиге духовного рождения и уже оживающего в предвоскресении, идущего по этой грешной, но тоже реальной и единственной земле — в России, Франции или Египте — в поисках святой правды Божией. Голгофа и Воскресение человеческого тела Бога, а вслед за ним и уподобление Ему, страдание в подвиге и совоскресение человека — факт, не только совершенно реальный, но и единственный, неповторимый и не требующий повторения: им покрыта вся творческая нужда мироздания. Человек после Воскресения Христова уже не нуждается в перевоплощениях, так как в воплотившемся Боге ему открыта вся возможность воплотившегося бытия.
«Предадим себя всецело Господу, да и Его восприимем всецело и соделаемся чрез Него богами» (преп. Максим Исповедник, Д III — 175).
«Да подаст же всем вам помощь великий оный Брат наш; разумею Господа нашего Иисуса Христа… О! Кого имеем мы своим Братом!.. Бога, чтобы и нас сотворить богами» (преп. Варсонофий Великий, Д II — 573).
«Нося светло–осиянную одежду Духа, мы пребываем в Боге и Он в нас, бываем по благодати богами и сынами Божиими» (преп. Симеон Новый Богослов, Д V — 20).
На эту высочайшую надежду указывает учение христианства о воскресении Христовом и тем самым о реальности воскресения тел, и именно через него любовь человека к Богу, переставая быть отвлеченностью, становится еще более личной любовью навсегда обрадованного сердца и ума: Бог принимает не призрак человека, а его теплого и живого.
Для понимания Отцов–подвижников очень важно то, что свою веру в воскресение тел они основывали не только на догмате о воскресении и вознесении тела Спасителя, и не только на ясном учении Апостола Павла, но и на личном опыте предвоскресения своих тел.
«Прежде воскресения тел, — пишет преп. Симеон Новый Богослов, — бывает воскресение душ». Это воскресение души, добавляет он, «и тело освящает своим собственным сиянием и светоизлиянием Духа» (Д V — 58, 23).
«Есть чистота ума, в коей, во время молитвы, воссияет свет Святыя Троицы. Но удостаиваемый света оного ум и соединенному с ним телу сообщает многие знаки божественной красоты» (св. Исаак Сирин, Д V — 301).
«В устремивших ум свой к Богу и душу привергших к вожделению божественного, — и плоть, перенастроившись, возвышается вместе с ним и вкушает божественного общения, через что и она бывает стяжанием и домом Божиим» (св. Григорий Палама, Д V — 321).
«Непрестанною молитвою и поучением в Божественных Писаниях отверзаются умные очи сердечных и зрят Царя сил, и бывает радость великая и сильно воспламеняется в душе Божественное желание неудержное, причем совосхищается туда же и плоть действием Духа и человек весь соделывается духовным» (св. Филимон, Д III — 397).
«Если душа неколеблющимся и немечтательным движением воспламенится в любви Божией, влеча как–то в глубину сей неизреченной любви и само тело… то ведать надлежит, что это есть действо Святого Духа» (блаж. Диадох, Д III — 26, 55, 22).
«Когда благодатию Божиею — дар сей — дар благодатных слез в нас умножится, — тогда и брань с врагом бывает легче, и помыслы умиротворяются и утишаются, и ум, как некою обильною пищею, насыщается и услаждается молитвою. Из глубины сердца льется некая несказанная сладость, ощущаемая по всему телу» (преп. Нил Сорский, НС — 91).
«Когда человек боится оскорбить Бога каким–нибудь грехом, — это первая любовь. Кто имеет ум, чистый от помыслов, — это вторая любовь, большая первой. Третья, еще большая, когда кто ощутимо имеет благодать в душе. А кто имеет благодать Святого Духа и в душе и в теле, — это совершенная любовь» (авва Силуан, ЖМП 1956, № 1, 2, 3).
Читать дальше