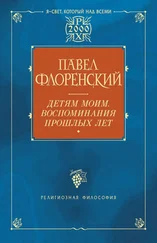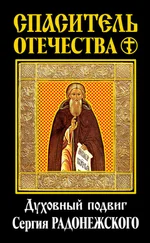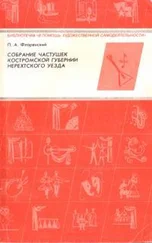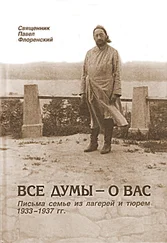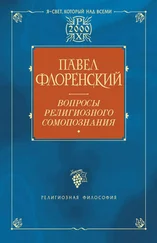Мы определили культ как соединение горнего с дольним, как живое противоречие того и другого: какое же может быть более живое и большее противоречие, нежели явление этого Слова Жизни во плоти. Оно-то и есть культ по преимуществу, средоточие культа—таинство по преимуществу, основание и первоисточник всех таинств. И он есть деятельность, ибо совершение этого культа принадлежит Самому же Христу, «архиерею грядущих благ» (Евр. 9, 11), входящему Своею Кровию» «не в рукотворенная... святая, противообразная истинных [т. е. не в отображение горнего], но в самое Небо» (Евр. 9, 24)—в скинию Небесную.
8. Итак: что такое культ?
Культ есть система тайнодействий.
Понять культ—это значит понять, какие тайнодействия составляют его и почему именно такие, а не другие. Но для этого надо уразуметь, где начало их системы—где узел, их связывающий.
Выражаясь несколько важно, надо дедуцировать из некоего общего начала расчлененность культа—на тайнодействия, а в тайнодействиях—способы их явления в пространстве и во времени. Мы видим, что такой центр есть Богоявление, а в культе он проецируется ближе всего евхаристией. Наши рассуждения не уклоняются от Востока христианской ориентации— от евхаристии. А это—основной критерий жизнепонимания. Мысль, высказанная по частному поводу св<���ятым> Иринеем Лионским, одним из наиболее глубоко и последовательно культоцентричных свидетелей Христовой веры, имеет, однако, значение иобщее, для всех сторон жизнепонимания, для всего философского умозрения. Это именно ориентировка на евхаристии. «Ημών δέ σύμφωνος ή γνώμη ttj ευχαριστία, και ή ευχαριστία βέβαιοι την γνώμην—наше <...> учение согласно с евхаристиею, и евхаристия, в свою очередь, подтверждает [это] учение», проверяет истинность взятого пути св<���ятых> отец (Св<���ятой> Ириней Лионский ,—Против ересей, IV, 18, § 5) {277}. Воистину евхаристия, как последняя точка, созерцаемая на Земле, как наикрепчайший и наионтологичнейший устой Земли—и основа и критерий всякого учения.
Установив и «утвердив» свою мысль на том же «недвижимом камени» {278}, мы можем перейти к дальнейшему—постараться понять расчлененность культа.
Словами: «Не хищением непщева» {279}ап<���остол) Павел ограничивает меру и значение вытягивающейся из земли мистики. Не знающая себе меры, эта мистика делается началом титаническим и богоборческим, противопоставляющим свои достижения высокого порядка самому Небу.
Но она же, когда знает свою меру, есть условие духовной жизни.
При этом-то развитом здесь взгляде на понятие восхищения делается [280].
Акаф(ист) Б<���ожией> М<���атери>. Конд<���ак> 8
«Устранимся мира, ум на небеса преложше {281}—ξενωθωμεν του κόσμου, τον νουν εις ούρανόν μεταθέντες». Συνέκδημος, σ. 666.
Вот и метафизика—трансцендентная интуиция.
Антроподицея
Кан<���он> Анг<���елу> Хран<���ителю>, п<���еснь> 7, И ныне.
Богородице, «лествице умная, ею же Бог сниде и ч<���елове>к взыде» {282}.
Это и есть определение таинства. Что есть таинство? Богородица. Она есть Церковь.
Кондак Вознесения Господня
«Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы» {283}.
Соединение горнего с дольним.
Феофан Затворник
Письма к одному лицу в СПб. 10 к. {284}
Обряд—обряжает. ΝΒ.
Средоточное значение евхаристии. Она при всех таинствах—с ними соединяется.
Об эллинском происхождении троеперстия и о значении сего обряда см. в Ж<���урнале> М(инистерства) Н<���ародного> Просвещения), 1911, янв. н<���овая> сер<���ия>, ч. XXXI, в статье В. Богаевского—А ΕΩΝ ΚΡΗΝΟΦΥΛΑΞ.
Антроподицея
Г. Спенсер ,— Начала социологии (Обрядовые учреждения). Перев<���од> с англ. под ред. И. В. Лучицкого. Киев, 1880 [МДАк. 8, 276].
Стр. 9: «Если, устранивши чисто личные действия, мы станем рассматривать только те из них, которые представляют непосредственные сношения с другими лицами, а под словом «правительство»—подразумевать всякий контроль над такого рода действиями, откуда бы он ни вытекал,— мы должны будем заключить, что самый ранний и самый общий вид правительства, возобновляющийся всегда самопроизвольно, есть правительство обрядов, обычаев и общественных церемоний, которые мы называем общим именем «обрядового правительства». Даже более. Мы можем утверждать, что этот вид правительства не только предшествовал всегда всем прочим, не только оказывал во всех местах и во все времена всеобъемлющее влияние, но всегда почти, всегда и прежде, и теперь, обладал наибольшею долею участия в регулировании человеческой жизни».
Читать дальше