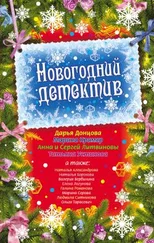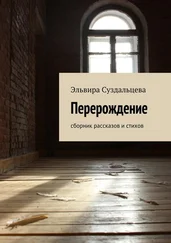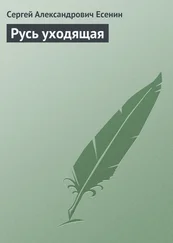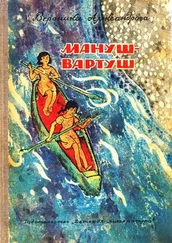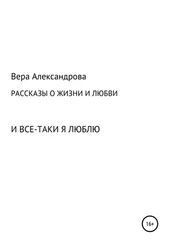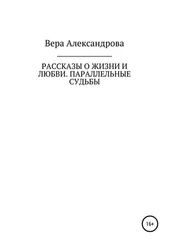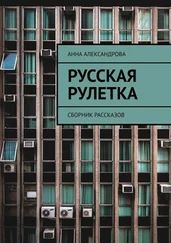Зав. кафедрой гидравлики у нас был профессор А… На нашем потоке училась его дочка Наташа. И вот <73>профессор иногда прерывал связную речь — о потоках, о струях, — и говорил: «Наташка, дура! Опять не слушаешь, как же ты экзамен сдавать будешь?!» — и продолжал дальше. Он был очень ученый человек, прекрасный лектор, но некоторые не могли его слушать. Был у меня товарищ, Коля, фронтовик, он однажды говорит: «Не могу А… слушать, он все время откашливается». Я прежде этого не замечал, но как Колька мне сказал, так и меня это стало отвлекать от содержания лекции, и я тоже стал считать, сколько раз он кашлянет. А что кашлял он, было не удивительно: внизу в лаборатории был страшный холод.
Электротехнику вел Отто Юльевич Венедикт — венгерский еврей по национальности. Он использовал забавные методические приемы. Например, задавая задачку на тяговую силу мотора, формулировал ее так: «Смотрите, я стою под грузом. Груз — две тонны. Ну, и что же вы делаете? Он же на меня упадет! Вон, уже падает!!!» Естественно, в жизни подобные задачки надо было решать очень быстро.
Курс физики читал профессор Зëрнов, долгое время живший в Англии. На лекциях он иногда допускал ремарки в наш адрес, что мы плохо себя ведем на улице. «Ну, как же так можно? — удивлялся он. — Переходят улицу там, где не положено! Висят на трамвае!! Прыгают на ходу!!! В Лондоне вы этого не увидите. Джентльмен себе ничего подобного не позволит, а того, кто позволит, полицейский вправе так стукнуть дубинкой, что больше ему этого не захочется».
Вообще многие старые профессора были немного с чудинкой, — таков уж был у них обычай. Фамилия одного была не то Ситников, не то Сотников — не помню. Читал он экономическую географию. В аудиторию врывался со звонком, поворачивал стул спинкой к слушателем, садился на него верхом, спиной к доске, и, рассказывая, показывал указкой на карте, — не оборачиваясь, но никогда и не ошибаясь. Заканчивал ровно со звонком, и в следующий раз начинал точно с того места, на котором кончил. Нас это забавляло, так что мы даже записывали, чтобы сверить.
<74>В МИИТе тогда «гостил» ЛИИЖТ. [34] Ленинградский институт инженеров транспорта. — Концевая сноска 12 на с. 384.
Профессура, вернувшаяся из Новосибирска, жила в 6–м корпусе. Среди профессоров ЛИИЖТа были лекторы, которых мы бегали слушать наряду со своими. Одним из них был Николай Михайлович Егоров. Он читал теорию механизмов и машин, — ТММ — что на студенческом языке называлось «ты моя могила». В конце семестра он делал обзорную лекцию по прочитанному курсу, блестяще все суммировал и сам с добрым юмором говорил: это обзорная лекция. Но мы называли ее «Как сдавать экзамен». Действительно, он перемежал теоретический материал с теми или иными рассказами о приготовлении «наглядных пособий», то есть шпаргалок, и вспоминал эпизод, когда он что–то спросил у одного из студентов по поводу хитро составленной шпаргалки, и тот ему ответил: «Профессор! Ведь вы знаете, в нашем деле без шпаргалки невозможно!» Сам Николай Михайлович говорил, что толковая шпаргалка означает, что человек проработал курс, — если смог вместить его на весьма ограниченной площади.
Он женился на студентке, и мы часто наблюдали, как он гуляет по двору с колясочкой.
Мы знали, что актовый зал был некогда домóвым храмом. Конечно, речи о его восстановлении не было. Но как–то негласно признавалось то, что возвышение, расположенное на месте алтаря — священное место, и оно ничем не было занято. Воинствующего атеизма не было. Преобладал общий дружеский тон. Кто–то бывал в церкви. Посещавшие храм не вызывали удивления или критики. Однажды один из студентов рассказал о своей озорной выходке в церкви. Его никто не поддержал и, тем более, никто не одобрил.
Одного из моих друзей вызвали в комитет комсомола. Стали расспрашивать, о том, о сем. Потом секретарь комитета спросил его: «А что–то фамилия у вас подозрительная: Рождественский» — «Конечно, — ответил тот, — как и ваша». Фамилия секретаря была Успенский.
Иногда мы узнавали в храмах наших профессоров, скромно стоящих где–то в уголочке, а нередко и военных, <75>у которых под штатским пальто или плащом отчетливо прорисовывались погоны. [35] Несколько лет спустя, когда уже была возобновлена Троице–Сергиева лавра, ее первым наместником стал архимандрит Гурий (Егоров). И вот там в церкви я однажды увидел Николая Михайловича Егорова. Я поздоровался, хотя он меня в лицо не помнил. «Молодой человек, — обратился он ко мне, — Передайте, пожалуйста, отцу наместнику, что к нему приходил брат».
Читать дальше