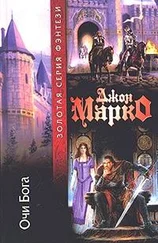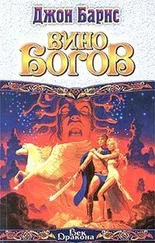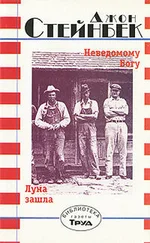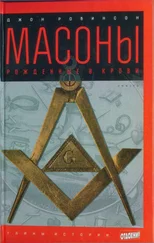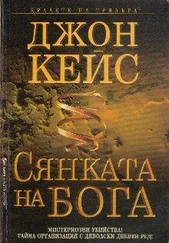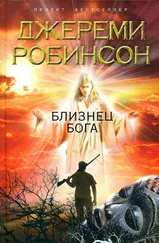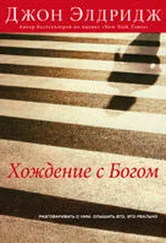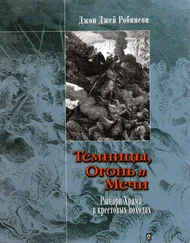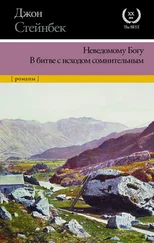Бонхёффер говорит о Боге “религии” как о deus ex machina [54]. Он должен быть где-то “там”, чтобы на него можно было вовремя сослаться, когда у нас не хватит собственных знаний или способностей. Но такому Богу придется отступать все дальше и дальше по мере роста человеческих познаний. В науке, в политике, в этике уже нет нужды в таких суррогатных ответах, тут от Бога уже не ждут каких-нибудь гарантий, решений или помощи. Примерно о том же пишет Джулиан Хаксли:
“Гипотеза бога уже не имеет никакой практической ценности для интерпретации или понимания природы; более того, она часто преграждает путь лучшему и более истинному пониманию. Функции Бога переменились, и в последнее время он похож уже не на правителя Вселенной, а на тающую в пространстве улыбку космического Чеширского Кота” [55]. “Для интеллигентного, образованного человека скоро станет так же невозможно верить в какого-то бога, как невозможно сейчас верить, что земля плоская, что мухи самозарождаются, что болезнь — это божественная кара, а смерть — результат колдовских происков. Боги-то, конечно, выживут — они еще пригодятся и для обеспечения чьих-то денежных интересов, и для успокоения тугодумов, и в качестве марионеток для политиков, и для утешения несчастных и невежественных душ” [56].
И вот в этом-то последнем убежище, в укромном внутреннем мире человека, говорит Бонхёффер, и находят потайной угол для Бога, вытесненного из всех остальных сфер человеческой жизни. Вот она, сфера “религии”, вот где теперь оперирует церковь, делая свое дело среди тех, кто еще чувствует такую нужду или кому удается ее внушить.
“Своей “религиозной” проповедью мы можем воздействовать разве что на нескольких “последних рыцарей”, да еще на кучку интеллектуально нечестных людей. Неужели это и есть “малый остаток избранных”? Неужели мы, перебивай друг друга, наступая друг другу на ноги и всё более разочаровываясь, обрушимся именно на эту сомнительную группу, пытаясь сбыть наш залежалый товар? Неужели мы набросимся на нескольких несчастных в минуту их слабости, чтобы, так сказать, религиозно их изнасиловать?” [57]
Каков же ответ Бонхёффера? Мы должны, говорит он, смело отказаться от опоры на предпосылку “априорной религиозности”, подобно тому как у апостола Павла хватило мужества отбросить бремя обязательного обрезания как предпосылки Евангелия — и принять “совершеннолетие мира” как Богом данный факт. “И мы не можем быть честными, не сознавая, что мы должны жить в мире, “etsi deus non daretur” — “даже если Бога и не было бы” [58]. Как детям, переросшим уютную религиозную, моральную и интеллектуальную атмосферу семьи, где “папочка” всегда под рукой, “Бог дает нам понять, что мы должны жить, справляясь с жизнью без Бога”.
“Бог, Который с нами, есть Бог, Который хочет, чтобы мы жили без рабочей гипотезы о Боге, есть Бог, пред Которым мы постоянно пребываем. Пред Богом и с Богом мы живем без Бога. Бог дозволяет вытеснить Себя из мира на крест, Бог бессилен и слаб в мире, но именно в этом и только через это Он с нами и помогает нам...
В этом кроется коренное отличие от всех религий. Религиозность указывает человеку в его бедах на могущество Бога в мире, Бог — deus ex machina. Библия же указывает человеку на бессилие, на страдание Бога; помочь может лишь страждущий Бог. В этой связи можно сказать, что описанное развитие к совершеннолетию мира, которое помогло разделаться с ложным представлением о Боге, расчищает для взора библейского Бога, Своим бессилием завоевывающего власть и пространство в мире. Здесь, пожалуй, нужно пускать в ход “мирскую интерпретацию” [59].
ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Здесь Бонхёффер уже касается того, что должно занять место отвергнутых им предпосылок: к этой теме мы вернемся в последующих главах. В этой же главе мы занимаемся “расчисткой территории”, с этим и связан ее неизбежно деструктивный характер. Вслед за Тиллихом я назвал ее “Конец теизма?” [60], потому что, как. он говорит, теизм в обычном понимании “превратил Бога в небесную, абсолютно совершенную личность, пребывающую над миром и человечеством” [61]. На самом деле классическая христианская теология не говорила о Боге как о “личности” (отчасти потому, что этот термин был уже использован для обозначения трех “Лиц” Троицы), и к лучшим богословам Церкви обвинение Тиллиха не относится. Они могли бы согласиться с ортодоксальным по сути определением Бога как “Реальности, объемлющей и проницающей всякое творение” [62], которое приводит профессор Норман Питтенджер [63]. Однако популярное христианство всегда говорило о Боге как о верховной Личности. Поэтому мы не вправе упрекать Джулиана Хаксли за его утверждение, что “человечество в целом и религиозное человечество в частности привыкло представлять себе” Бога “в виде внешнего, личного, сверхъестественного и духовного Существа” [64]. И всё же современные философы-лингвисты [65], если только я их правильно понимаю, при всей своей изощренности продолжают спорить о существовании или несуществовании именно такого Существа. “Теист, — говорит А. М. Кромби, — верит в Бога как трансцендентное существо” [66] , а Дж. Ф. Вудс [67]считает, что Р. У. Хеберн [68]“кратко и точно” формулирует суть дела, когда пишет: “Язык “трансцендентности”, представление о Боге как о личностном Существе, всецело отличном от человека и пребывающем в своем величии, — этот язык, в конечном счете, легко превращается в бессмыслицу. И в то же время пожертвовать им — значит совершенно отказаться от христианства” [69].
Читать дальше