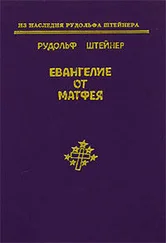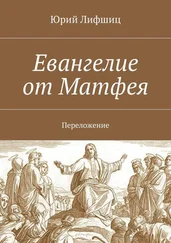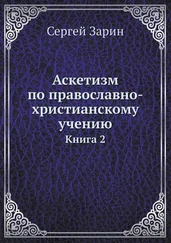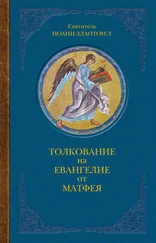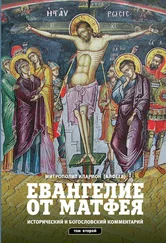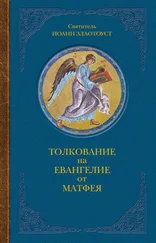. Так и ученики Господа нарушили бы самое существо своего предназначения, если бы они заключили в себе самих, скрыли от мира сообщенное им познание истины и средства благодатного спасения. Что в сравнении предлагается прямое описание правильного отношения учеников к своему призванию, — на это указывает уже οὖ τως— так ст. 16
[6] В подтверждение понимания oὕ τως как предваряющего ὁπως не приводится ни одного примера. Особенно после притчи (XII, 45; XIII, 49; XVIII, 14; XX, 16; XXIII, 28) oὕ τως указывает обычно и именно на последнюю и завершает сравнение. Ср. Сир. XII . 14; XIII, 16–19.
), ставящее в связь увещание этого стиха с приведенными в притче примерами отрицательного и положительного свойства. Οὕ τωςв таком случае указывает на то, что ученики Господа должны воздерживаться от всего, что может затруднять распространение света Христова на других людей, и, напротив, не упускать ничего, что такому распространению может способствовать. Стремления учеников должны быть направлены к тому, чтобы люди, видя «добрые дела», благородные, обвеянные небесною красотою поступки
[7] Множ. τὰ ἔργα уже В.З. часто означает вообще ἐργάδεσθαι во всем его многообразии, деятельности и стремления человека вообще, причем имеются в виду и нравственные их качества (Быт. VIII :21; Исх. XXIII :24; Пс. XXXII :4; LXI, 13; Притч. XXI :8; 1 Петр. I :12 след.; Иак. III :13). Ἀγαθ ό ς ; указывает преимущественно на настроение и основанное на нем нравственное достоинство, καλ ό ς — на проявление добра в похвальных качествах(ср. Мф. XV G; Иоанн. X, 32; 1 Тим. III ; 1 и др). В новозаветных писаниях καλ ό ς встречается чаще, чем ἀγαθ ό ς , у LXX — наоборот.
последователей Господа побуждались этим к прославлению своего Небесного Отца. Поведение, какого ожидает Иисус Христос от своих учеников, должно быть таково, чтобы в нем ясно отражалось и конкретно осуществлялось обладание тою истиной, какую они должны были сообщить миру, чтобы всем своим образом жизни они свидетельствовали миру, что они — сыны Отца Небесного. Прославление Бога — конечная цель как всего искупительного подвига Господа, так и всей жизни и деятельности Его последователей. И это богосыновство не есть только
[8] Израиль, как народ Божий, назывался сыном Божиим и Бог — его Отцом (Исх. IV :22; Второзак. XXXII :6; Осии ХИ, 1; Иезек. LXIII :16; Иерем. XXXI :9; Малах. 1 :6; II, 10); равным образом все израильтяне назывались Его сынами и дщерями (Второзак. XIV :1; ХХХII, 19; Иезек. I :4; LXIII, 8; Осии II, 1), но только как члены народа.
, но свидетельствует об особенно близких отношениях учеников Иисуса Христа к Богу, как своему Небесному Отцу. Но, с другой стороны, замечательно, что Иисус Христос не уравнивает и не сливает своего богосыновства с богосыновством Своих учеников; ни здесь, ни в каком либо другом месте Евангелия наименования «ваш Отец» и «мой Отец» не сливается и не объединяются в выражении «наш Отец» (ср. Иоан.
XX:17; Мф.
XII:49 след.; Евр. П, 11)
[9] «Отче наш» молитвы Господней, конечно, не говорит против этого, ибо молитва эта дается ученикам и им так заповедуется молиться. См. и в книге D. Forrest’a The Christ of History and of Experience. Edinburgh, 1906, p. 27, 386–386, 472–481.
.
Но как же это требование «добрых дел», совершением коих апостолы и их преемники должны непререкаемо перед всем миром свидетельствовать о своем особенно близком богосыновстве и о себе, как об истинных учениках Мессии, — как такое требование относится к тому, что составляло норму жизни и поведения Израиля, — к писанному Закону Божию и к истолкованию его руководителями еврейского народа — раввинами и фарисеями? Согласно предсказанию пророка, евреи ожидали в мессианскии времена заключения «нового завета» с Богом, когда Закон Божий будет вложен «в мысли» людей и начертан «на сердцах» их, так что не будет уже более нужды во внешнем взаимном научении богопознанию (Иерем. XXXI:31). С другой стороны, все выдающиеся писатели позднейшей эпохи иудейской истории единодушно сходились в прославлении вечности и неизменяемости закона. Что пророк говорил о слове Божием и о завете Бога с народом (Ис. LIV:10), то перенесли на закон вообще и на каждое его постановление в отдельности [10] Письмо Аристея к Филократу о происхождении перевода LXX представляет собой апотеозу закона. Главною целью И. Флавия в его полемическом произведении против Апиона — доказательство вечности закона и др.
. Господь обещает «великую награду» своим ученикам за те поношения, кои они претерпят ради Него Самого. Ученики могли предполагать, что для них, как для призванных соучастников приближающегося царства небесного, писанный Закон Божий перестанет служить обязательною нормою поведения. Всякое сильное возбуждение эсхатологических ожиданий сопровождается опасностью антиномистических тенденций. Апостолы даже внешне оставили обычный образ жизни (IV, 18–22), и Господь требовал от них совершенно противоположного общему представлению, всецело вдохновляемого мыслью о царстве небесном, провождения жизни. Так как Нагорная Беседа произнесена во всяком случае не в самый ранний период галилейской деятельности Господа, то и в действиях Его Самого могли усматривать — конечно, совершенно неосновательно, — проявление пренебрежительного отношения к предписаниям закона и, так называемым, преданиям старцев (ср. Мф. IX:14.-17; XII, 1—13 и др.). Вопреки ложному мнению своих врагов и в предотвращение возможного недоумения даже со стороны учеников касательно своего действительного отношения к писанному слову Божию, Господь определенно выражает учение о том, какова провиденциальная цель Его пришествия и задача Его деятельности в отношении к закону и пророкам. Μή νομίσητεὅ τιἦ λθον καταλῦσαι τὀν νόμονἤ τούς προφήτας - οὐκἦ λθον καταλῦσαι, ἀλλἀ πληρῷσαι.
Читать дальше