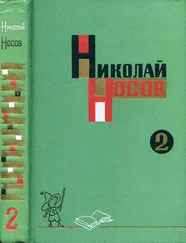«Мы лишились матери 27 февраля 1837 года, — пишет Андрей Михайлович. — Спустя несколько времени после смерти матушки отец наш начал серьезно подумывать о поездке в Петербург (в котором ни разу еще не бывал), чтобы отвезти туда двух старших сыновей… Отец, по возвращении своем из Петербурга, намеревался совсем переселиться в деревню (он подал уже в отставку), а потому до поездки в Петербург желал поставить памятник на могиле нашей матери. Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтобы было только обозначено имя, фамилия, день рождения и смерти. На заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра»» [38] Там же. С. 26–27, 28.
. То, что эта надпись была взята из Карамзина, а не так, как обычно, из библейских текстов, очень характерно: всю жизнь для Достоевского не было никакого противоречия между сердечной религиозностью и искусством. Тут все его отличие от позднего Гоголя.
«Не знаю, вследствие каких причин, — пишет Андрей Михайлович, — известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон матушки… Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор… несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине» [39] Там же. С. 27.
. Мать Достоевского умерла в феврале 1837 года, Пушкин — в январе, а уже в мае этого же года Достоевский вместе со старшим братом Михаилом был отвезен в Петербург. Две эти смерти были рубежом, за которым началась его самостоятельная жизнь.
Во время переезда на лошадях в Петербург он имел встречу с тем страшным миром, в котором был обречен жить, — миром жестокости и страдания. «Анекдот этот случился со мной, — пишет он об этом сам в «Дневнике писателя», — в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году… по дороге из Москвы в Петербург… Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три… Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три… а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин… И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоялом дворе… готовились тронуться, а пока я смотрел в окно и увидел следующую вещь.
Прямо против постоялого двора приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назади, в большой треугольной шляпе… высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки… Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка… Тотчас же выскочил и фельдъегерь и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких–нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы отхлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду» (22: 27–28).
Не эта ли встреча на пути определила основную идею или, лучше сказать, главную боль всего будущего литературного творчества Достоевского, его нравственное обличительство отрекающейся от Христа цивилизации? Я уже сказал, что он неоднократно вспоминал чтение паремий, читаемых во вторник на Страстной, из книги Иова. В среду на Страстной в церкви читаются паремии из книги пророка Иезекииля, еще ближе вводящие нас в понимание души писателя. «И ты, сыне человечь, послушай глаголющаго к тебе… отверзи уста твоя и снеждь, яже Аз даю тебе. И видех, и се рука простерта ко мне и в ней свиток книжный. И развй его предо мною… и вписано бяше в нем рыдание, и жалость, и горе. И рече ко мне: сыне человечь, снеждь свиток сей, и иди, и рцы сыном Израилевым, и отверзох уста моя, и напита мя свитком сим» [40] Иез. 2, 8–10; 3, 1–2.
.
Когда в январе 1838 года Достоевский поступил в Петербургское инженерное училище, в нем, конечно, уже жили начатки «рыдания, жалости и горя» с небесного свитка. Христианство обретало себе в его душе ту единственную землю, на которой оно может плодотворно расти, — сострадание миру.
Читать дальше