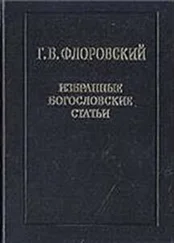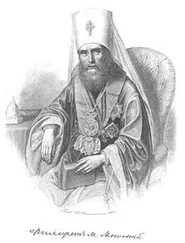Окончательное совершение и исполнение для преп. Максима связано с изначальной творческой волей и намерением Бога: таким образом, его концепция строго «теоцентрична» и в то же время — «христоцентрична». В ней, однако, ни на минуту не забывается о тяжкой реальности греха и бесконечной горести греховного существования. Преп. Максим не перестает подчеркивать необходимость обращения и очищения воли, необходимость борьбы со страстями и злом. Но он, тем не менее, пытается взглянуть на трагедию грехопадения и отступничества твари в свете изначального замысла и предвидения Божия [17].
До какой степени мнение преп. Максима является определяющим? Только ли это его личное суждение, и насколько авторитетны такие суждения? Совершенно очевидно, что на вопрос об исходной, основной «причине» Воплощения можно дать не более чем гипотетический, «приемлемый» ответ. Однако многие богословские положения суть такие «гипотезы» или «теологумены» [18]. Представляется, что теория Воплощения, независимого от грехопадения, по меньшей мере допустима в православном богословии; она находится в хорошем согласии с общим направлением святоотеческой мысли. И корректно разрешить вопрос о причине Воплощения можно лишь в контексте целостного учения о Творении.
Мысль мою Твоим смирением сохрани (Из вечернего правила).
Цель воплощения Бога-Слова
«Слово плоть бысть.» В этом высшая радость христианской веры, в этом полнота Откровения. Откровения не только о Боге, но и о человеке… В воплощении Слова открывается и осуществляется смысл человеческого бытия. Во Христе-Богочеловеке явлена мера и высший предел человеческой жизни. Ибо «Сын Божий стал Сыном человеческим, чтобы и человек стал сыном Божиим,» как говорил священномученик Ириней [19]. В воплощении Слова не только восстанавливается первозданная цельность и полнота человеческой природы, человек не только возвращается к утраченному Богообщению, но обновляется, воссозидается, новотворится… Первый Адам до падения был духоносным человеком… «Последний Адам есть Господь с небеси» (1 Кор. 15:47). В воплощении Слова человеческое естество не только помазуется сверхизбыточным излиянием благодати, но приемлется в ипостасное единство со Словом, как «собственное» Ему человечество, уже нераздельно и неразлучно соприсущее Ему в Его собственной ипостаси.
В этом восприятии человеческого естества в непреложное общение Божественной жизни древние отцы видели смысл спасения, смысл искупительного дела Христова… «То спасается, что соединяется с Богом,» — говорил святитель Григорий Богослов [20]. Это основной мотив богословия священномученика Иринея, святителя Афанасия, святых Каппадокийцев, святителя Кирилла Александрийского, преподобного Максима Исповедника. Вся история христологического догмата определяется основной предпосылкой: воплощение Слова как Искупление… В воплощении Слова сбывается человеческая судьба, свершается предвечное Божие изволение о человеке — «еже от века утаенное и ангелом несведомое таинство». Отныне жизнь человека, по слову апостола, «сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:3).
Воплощение Слова было истинным Богоявлением. И прежде всего — явлением Жизни… Христос есть Слово Жизни: «Ибо Жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную Жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1 Ин. 1:1–2) [21]. Воплощение Слова есть оживотворение человека, некое воскрешение человеческого естества. Но Воплощением только начинается Евангельская история Бога-Слова… Исполняется она Его в крестной в смерти. Жизнь открывается нам через смерть… В этом таинственный парадокс христианской веры: жизнь через смерть как воскресение от добровольной смерти; жизнь от гроба и из гроба — это таинство живоносного гроба… Каждый рождается к подлинной вечной жизни только через крещальное умирание, через сопогребение Христу, возрождается со Христом от погребальной купели… В этом — непреложный закон истинной жизни: «Ты еже сееши, не оживет, аще не умрет» (1 Кор. 15:36).
«Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти» (1 Тим. 3:16). Но Бог «явился» не затем, чтобы сразу действием Своего всемогущества пересоздать мир, и не затем, чтобы сиянием Своей славы сразу просветить и преобразить его… Божественное изволение не упраздняет изначального законоположения человеческого «самовластия,» не отменяет и не нарушает древнего закона человеческой свободы. И в этом сказывается некое самоограничение, некий кенозис [самоуничижение] Божественной власти. И более того: некий кенозис и самой Божественной любви, ибо она как бы ограничивает Себя соблюдением тварной свободы…
Читать дальше