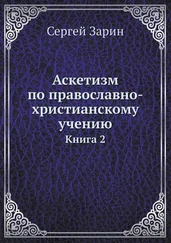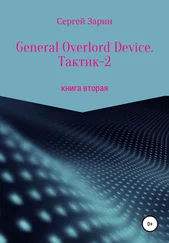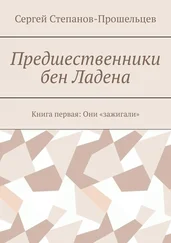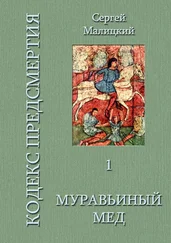Характеризуя общие особенности своих «Лекций» о. И. Л. в предисловии ко 2-му изданию, между прочим, говорит, что «первым основным требованием» «нравственного закона» у него «указан аскетизм, не религиозный только, который состоит из упражнений в бдении, посте, молитвах и тому подобных подвигах, — а вообще аскетизм, как непрестанно бодрствующая разумная власть или господство над стихийными влечениями психо-физического организма вообще и сил внешней природы, — господство, требующее и содействующее развитию таких нравственных качеств, как мудрость (в частности, знание законов природы), мужество, терпение, воздержание, трудолюбие и т. п., без которых немыслимы ни индивидуальное, ни общественное нравственное благо, — без которых ничем не может выразиться и ничего не может сделать для ближнего и любовь к нему, — этот центр и венец христианских добродетелей» (стр. IX). Важное, необходимое, однако, по существу, только служебное значение аскетических добродетелей здесь выражено хорошо. Этой точке зрения следовали и мы при разборе воззрений о. И. Л. Янышева, считая именно ее наиболее правильной, отвечающей существу дела. Поэтому мы с особенным удовольствием и удовлетворением отмечаем у самого о. И. Л. Янышева такое категорическое и определенное выражение взгляда, вполне совпадающего и с нашей основной точкой зрения.
Впоследствии Патриарх Московский и всея Руси. Прим. fblib.com
Дополнение к тексту.
Стараясь отстоять и обосновать ту мысль, что у подвижников-созерцателей любовь к людям выражалась преимущественно, почти исключительно, в виде «благожелательного настроения» переходившего «в дело» лишь иногда, изредка, когда к тому представлялись прямые поводы, причем настроение не теряло своей ценности даже в тех случаях, если оно и совсем не переходило в дело (стр. 186–187), — проф. И. В. Попов впадает в некоторое противоречие с своим собственным определением «любви», которое он предлагает в той же самой своей диссертаций. То «внутреннее настроение», о котором говорит И. В. Попов, с полным правом можно отожествить с тем, что он вполне правильно и точно называет «сочувствием». Но, по его собственному категорическому признанию, «сочувствие», проявляющееся в сострадании и сорадовании, не есть еще любовь. Есть два существенных признака, отличающих это состояние чувства от любви: во-первых, сочувствие пассивно, любовь активна; во вторых, сочувствие есть дело минуты, любовь — настроение, отличающееся большим постоянством (стр. 241. Ср. стр. 68–75). «Любовь всегда обнаруживается в сочувствии к страданиям и радостям любимого и в деятельной помощи ему » (стр. 241, курсив наш). Отсюда, с точки зрения самого автора, нельзя ослаблять необходимую связь настроения христианской любви с деятельным, постоянным проявлением ее на всестороннее благо любимого. Тогда можно будет уже с полным правом, не опасаясь упрека в непоследовательности, утверждать, что «первенствующее значение в нравственности имеют общественные добродетели, аскетизм же есть наиболее прямой и целесообразный путь воспитания в себе этих добродетелей» (стр. 245). Таково и действительно учение христианства, тогда как по Шопенгауэру «добродетели любви являются средством для воспитания добродетелей аскетических» (ibid.). А в таком случае сама логика вещей приводит к признанию необходимости говорить и о важном значении аскетизма в широком и общем смысле. По справедливым словам И. В. Попова, «возможность нравственного развития дана единственно в упражнении воли, составляющем сущность аскетизма, и всякая система, отрицающая аскетизм, подрывает нравственное воспитание в его корне» (стр. 322, примеч.).
Дополнение к тексту.
Из опытов выяснения и раскрытия вопроса о христианском аскетизме, принадлежащих перу академических профессоров-специалистов позднейшего времени , упоминание заслуживают — отчасти — те страницы, которые посвятил названному вопросу проф. М. А. Олесницкий в своей докторской диссертаций: «Из системы христианского нравоучения». Киев, 1896. В этом сочинении упомянутого вопроса касается специально § 83: «Средства освящения (аскетика)» (стр. 255–268) и частично — § 84 «Обеты» (стр. 268–271). Здесь автор правильно и точно разграничивает два основных смысла в понятии «аскетизм» 1) более узкий и специальный, придававшийся этому понятию «в древней христианской церкви» и соединяемый с именем аскетизма и в настоящее время, по которому «аскетизм» — монашество, отшельничество и 2) смысл «более широкий», «в каком оно применимо к каждому христианину (и в каком употребляется в свящ. Писании)». «В этом смысле аскетизм есть вообще упражнение в добродетели » (стр. 256. Курсив самого автора). Такое упражнение, пользование известными средствами, которые обыкновенно называются аскетическими , необходимо каждому христианину «для совершения дела освящения» (стр. 255). Таких основных средств автором указывается четыре: самопознание, самодисциплинирование (средства отрицательные) и самопросвещение и самоупражнение (средства положительные).
Читать дальше
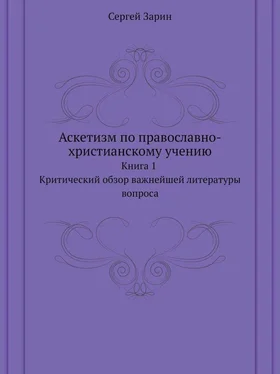


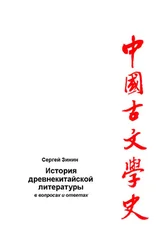
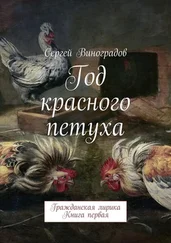
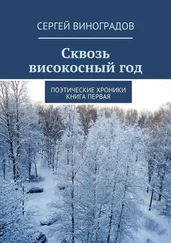
![Сергей Тармашев - Крах иллюзий. Каждому своё. Книги первая и вторая [сборник litres]](/books/390945/sergej-tarmashev-krah-illyuzij-kazhdomu-svoe-knigi-thumb.webp)