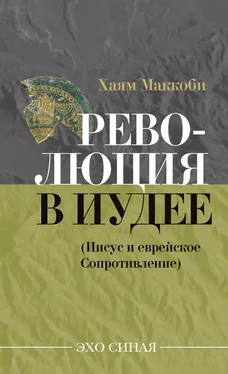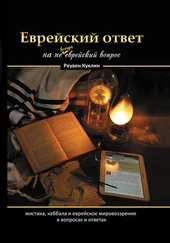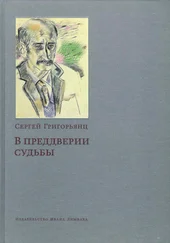— Какую национальную школу ты имел в виду? — спрашивал я его через много десятилетий.
— Конечно, русскую, — отвечал он мне.
Но советская родина конца 1940-х оказалась для него неприемлемой вдвойне: как для русского офицера — своим агрессивным неевропейским обликом и как для московского еврейского интеллигента — свирепым антисемитизмом. Нередко, когда свое, привычное становится неприемлемым и чужим, человек начинает искать иное свое, пусть не такое близкое.
По возвращении жизнь наша была нелегкой. Отцу повезло, его миновал ГУЛАГ, но пять лет, до самой смерти Сталина, он не мог найти работы и вынужден был жить на иждивении матери, моей бабушки Елены Владимировны, которая работала в Московском Союзе художников. Будучи человеком независимым, ершистым, отец быстро рассорился с искусствоведческим истеблишментом, позволил себе публично критиковать тогдашнего всемогущего сталинского «визиря» от искусства Александра Михайловича Герасимова. Короче, после светлого Веймара жизнь в Москве оказалась очень мрачной.
И на этом фоне отец открывает для себя свое еврейское происхождение. Не то чтобы он не знал об этом, но как-то не обращал внимания, что ли. Впрочем, у него всегда присутствовало острое ощущение собственного маргинализма, чуждости окружающей среде, характерное для любого еврея диаспоры. Еще во время войны он писал в одном из своих стихотворений:
Я борюсь за чужое дело —
Умирать хочу — за свое!
Но в чем заключалось «свое дело», он понял только тогда, когда чуть не попал в жернова эпохи «безродных космополитов». Он открыл для себя внезапно сионизм! Весной 1948 года он почти не заметил создания еврейского государства, оно его не задело. А уже через год он, свободно владея всеми европейскими (но не еврейскими!) языками, глотал разнообразную литературу по сионизму, про государство Израиль, который и заменил ему в качестве идеальной модели ту предавшую его родину, на которой он жил. Откуда же книги, могут спросить некоторые читатели, которые из многочисленных воспоминаний об этом периоде знают, что тогда все было под запретом и все всего боялись. Так-то оно так, но при желании книги можно было достать всегда. Так, например, двухтомник Жаботинского, который меня заставляли читать в детстве, пришел от самого автора, который подарил его Корнею Чуковскому, а уже Корней через знакомого художника Павла Бунина передал нам. «Еврейское государство» Теодора Герцля я впервые читал в 12-летнем возрасте, по-немецки готическим шрифтом. На такие книги «всевидящее око» не очень-то обращало внимание, чистки вымели из среды рядовых гэбэшников, как, впрочем, и из московской интеллигенции, знатоков германской филологии.
Весь этот страшный позднесталинский период, вплоть до дела врачей и дальше, отец просвещает меня в области того, что бы мы сейчас назвали иудаикой, и учится сам вместе с группой друзей, в число которых входил уже упомянутый мною Павел Бунин, известный художник, живущий сейчас в Москве, а также первый известный мне баал-тшува — вернувшийся к иудаизму советский еврей, Павел Гольдштейн, умерший в Израиле лет 25 тому назад. Они читали все подряд на всех возможных языках. Знаменитый «Эксодус» Леона Юриса попал к нам почти сразу после выхода в свет, где-то в конце 50-х, мы его читали по-английски, и впечатление было огромное. Была в доме Библия, но отец считал ее не столько Священным Писанием (он вообще был чужд всякому религиозному сантименту), сколько «учебником школы сопротивления».
Надо сказать, что романтический сионизм моего отца и его окружения с точки зрения сегодняшних еврейских стереотипов был довольно странен. С его точки зрения, от царя Давида и до Давида Бен-Гуриона в еврейской истории не случилось почти ничего интересного и заслуживавшего внимания. Галутная культура вызывала в лучшем случае слегка ироничную усмешку. Идиш ассоциировался главным образом с полуграмотной провинциальной еврейской массой, погрязшей в заслуживающих сожаления «местечковых» профессиях: торговле, спекуляции, мелком ремесленничестве и пр. Однако не следует полагать, что идеологически эта золотая цепь сионизма, начинавшаяся, как я уже упомянул с царя Давида, провисала в абсолютной пустоте вплоть до XX века. Пустоту эту заполняли такие не совсем еврейские события и личности, как Великая хартия вольностей, Вильгельм Оранский Молчаливый, Славная революция в Англии 1688 года, Хабеас корпус акт, оба Билля о правах, английский и американский, и, наконец, Уинстон Черчилль. В начале этого хорошо знакомого каждому англофилу ряда лежала Библия, а завершала его, по представлениям моего отца, Декларация независимости Израиля.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу