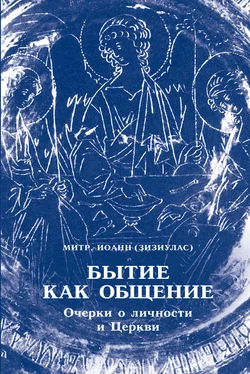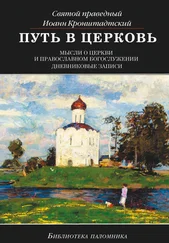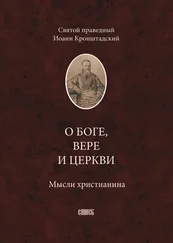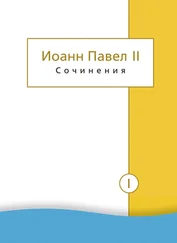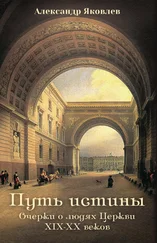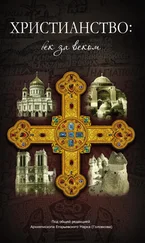Но если значение истории понимать таким образом, то возникает вопрос: как найти в нашей концепции истины подобающее, т. е. определяющее, место христологии? Проблема дополнительно осложнится, если пытаться найти связь с онтологией: каким образом «конец» истории может, как истина, совмещаться с воплощением, совершившимся в рамках истории, а также со свойственным бытию постоянством?
Уникальность и принципиальное значение богословия Максима состоит в успешно осуществленном христологическом синтезе, в рамках которого история и творение становятся органически взаимосвязанными. С помощью мужественно реабилитированного им логоса, прежде очень надолго отставленного из-за сопутствующих ему рисков, Максим пришел к следующему христологическому синтезу: Христос есть Логос творения, и в Нем следует отыскивать все логосы (λόγοι) тварных сущностей [156]. Нечто подобное утверждали апологеты и Ориген, но Максиму удалось отмежеваться от их трактовок, с помощью динамических категорий воли и любви переместив в логосе акцент с космологии на воплощение [157]. В этом случае ни логосы вещей, ни логос Бога нельзя помыслить вне движения любви. Субстратом существования выступает уже не бытие, а любовь. Истина, которой обладает логос существования, всецело зависит только от любви, а не от какой-либо рационально-объективированной структуры, которую можно было помыслить как саму по себе. Это исключительно важно для понимания этой новой трактовки логоса, поскольку через него логосы вещей совпадают не с природой или бытием, а с любящим волением Бога. Например, если к понятию логоса подходить с позиции «природы», то приходится утверждать, что знание Богом Своих творений находится в соответствии с их собственной природой. Максим, видя в этом решающее звено богословия, энергично возражает: «Знание Богом вещей означает не соответствие их собственной природе, а то, что Он узнает их как исполнение Своей воли (ιδία θελήματα), поскольку Бог творит вещи Своей волей (θέλων)» [158]. Знание Бога есть не что иное, как Его любовь. Если любовь Бога к творению прекратится, то не будет ничего. Бытие, таким образом, всецело зависит от общения.
Это радикальный отход от античного понимания истины, поскольку логосы вещей перестали быть для Бога необходимыми. Важно особо отметить, что расставание с античным подходом носит явный христологический характер и именно поэтому позволяет осуществить синтез истины бытия и истории. Если Бог знает творения как исполнение Своей воли, то не бытие, а воля, как высшее проявление Божьей любви, объединяет собой все сущее, открывая смысл бытия. Здесь становится ясным смысл воплощения. Воплощение Христа, будучи тождественно исполнению воли любящего Бога, означает, что и смысл бытия, и цель истории суть воплощенный Христос. Поскольку творение всех вещей в замысле или, скорее, в самом сердце причастно Христу, то независимо от грехопадения человека воплощение должно было произойти [159]. Христос воплотившийся есть Истина, так как представляет Собой высшее и непрекращающееся исполнение воления экстатической любви Бога, Который стремится привести все творение в общение со Своей жизнью, чтобы тварь могла познавать Его и себя в этом событии общения.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Наиболее категоричное, явно одностороннее и несколько чрезмерное выражение такого взгляда мы находим у современного русского философа А.Ф. Лосева, которое основано на изучении платонизма с позиций гегелевской интерпретации классической греческой культуры через толкование феномена античной скульптуры: «На темном фоне, в результате распределения света и тени вырисовывается слепое, бесцветное, холодное, мраморное и божественно прекрасное, гордое и величественное тело – статуя. И мир – такая статуя, и божества суть такие статуи; и города-государства, и герои, и мифы, и идеи – все таит под собой первичную скульптурную интуицию… Тут нет личности, нет глаз, нет духовной индивидуальности. Тут что-то, а не кто-то, индивидуализированное Оно, а не живая личность со своим собственным именем… И нет вообще никого. Есть тела, и есть идеи. Духовность идеи убита телом, а теплота тела умерена отвлеченной идеей. Есть – прекрасные, но холодные и блаженно-равнодушные статуи» (цит. по: Флоровский Г.В. Век патристики и эсхатология: Введение // Флоровский Г.В. Избранные богословские статьи. М., 2000. С. 238; на англ, яз.: Florovsky G. Eschatology in the Patristic Age: An Introduction || Studia Patristica. 2 / Ed. Cross F.L. Berlin, 1957. P. 248).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу