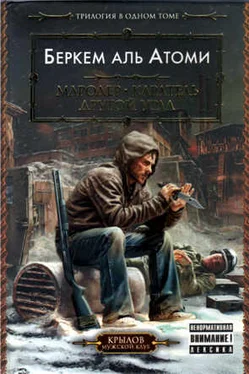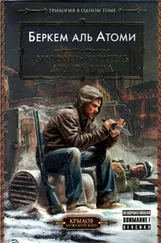Ментов на Шанхае отродясь никто не видел. И неудивительно — был бы я ментом, тоже ни за что не пошел бы доброй волей на Шанхай. Понятно, что это не относилось к участковому Гавриляну. Тот еженедельно заходил к единственному владельцу самой настоящей, не сарайной недвижимости в Шанхае — товарнику. После обеда в субботу, как часы; но иногда навещал его и в неурочное время. Мы часто встречались с ним на шатучем мостике через овраг, и он смешно надувал щеки, отчего становился похожим на Синьора-Помидора, грозил нам пальцем и раздавал шутливые поджопники. Мы с удовольствием делали вид, что страшно его боимся, и кидались обратно, а Вовка Обалдуй все не сводил глаз с гавриляновского нагана на шнурке, его уже в этом возрасте начала одолевать маниакальная тяга к оружию. Гаврилян степенно проходил по мгновенно опустевшему Шанхаю и боком влезал в невысокую дверь бревенчатой товарниковой избушки. Товарник никогда не встречал его и выходил лишь некоторое время спустя, когда величавое отбытие участкового уже забывалось легкомысленными шанхайцами. Товарник выходил на улицу, располагался на скамье у своих дверей, и к нему подсаживались самые центровые из местных обитателей — дядя Саша, бровастый, как Брежнев, цыган Парутин, чеченец Кастро, или Кастрат, торговка анашой Големба, еще несколько неприметных, не запомнившихся мне людей тихо о чем-то судачили, треща махоркой и тонко, «понтово», выстреливая неуловимые струны плевков. Мы пытались научиться плевать так же, но кривые и редкие молочные зубы делали это технически невозможным, и все кончалось заплеванной рубашкой и мокрым подбородком.
Иногда я замечал, какие отношения у Города и Шанхая, было на мосту такое место, встав на котором можно было ощутить их как целое — огромный, желтовато-шту-катурно-бревенчатый город, с красными пятнами автобусов и тучей галок над пожарной каланчой, свистом паровозов на железке, желтоватым холодком мороженого у кинотеатра, толстый, рассыпчатый и пугливый, он косо и отрывисто взглядывал на пестрый Шанхай, притулившийся у его рыхлого бока, исподволь тыкая маленького и шебутного соседа белыми гимнастерками милиционеров, когда тот, не удержавшись за помойным оврагом, выползал на чинные кленовые улицы. Вскоре я впервые услыхал выражение «как собаке пятая нога» и с тех пор начал видеть их взаимоотношения иначе — город стал этой собакой, с пятой ногой Шанхая, но быстро мутировал во слона, с огромными мягкими тумбами, и я знал, что скоро город оттопчет сам себе жилистую тонкую ногу Шанхая, на которой, в отличие от лысого пухлого сала городских тумб, еще трепыхалась на ветру жесткая черная шерсть.
Я чувствовал тогда, что эта шерсть — свобода, но головой понять не мог и не мог принять ни одну из сторон; да даже задуматься об этих вопросах мне было нечем, но чувствовалось все это очень четко. В городе были очень важные для меня штуки — кино, мороженое, но вот свободы не было. Может, ее просто не видно? Ну, подумаешь, чизелы [32] Чизел — местное жаргонное название сотрудника милиции.
ходят, но ведь они же не лезут? На Шанхае вон ее хоть жопой ешь, но там ни кина, ни мороженого, ни тира с самолетиком под крышей, одни только лужи по пояс, грязь да мухи над тухлыми кошками.
Лишь однажды на моей памяти между городом и Шанхаем проскочила искра, и город показал свою злобную мощь, до поры скрытую в недрах его дряблой туши. В конце весны в Оренбурге взяли инкассаторов — нагло, со стрельбой в центре города, немалой кровью. До нас, детей, это едва долетало — старшаки, прогуливающие уже третий, а то и пятый класс, снисходительно передавали нам базары дворовых небожителей, почти уже взрослых пацанов, у которых были настоящие тельняшки, мопеды и финки с разноцветными наборными рукоятками. Выходило, что вор в законе Лотоха один, с ножом в руке, остановил инкассаторскую машину, и тех, кто стал стрелять в него и его корешей, выстроил и пописал на месте, а остальных отпустил. Тут мнения расходились — одни говорили, что он еще и дал отпущенным по пачке денег, другие резонно возражали, что западло с общака псов кормить и что эти деньги только на всеобщее, а кто такие инкассаторы? Самые натуральные мусора, и точка. Поговорили, вспомнили еще раз под вечер, да и забылось — больно уж много событий произошло, и когда неделю спустя меня окликнул с крыши мой приятель Елизар, я никак не связал новость со старыми слухами. Я сидел на лавочке у старшаковского стола, обитого вытертой клеенкой, и играл сам с собой в ножики. Дождь разогнал всех со двора, а мне идти домой не хотелось — в квартире с вывернутыми пробками еще серее и скучнее, когда непогода, на улице в сто раз лучше.
Читать дальше