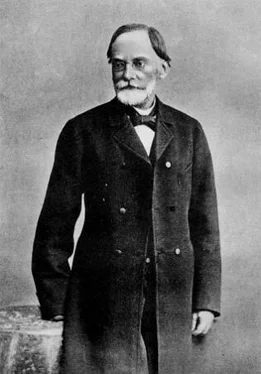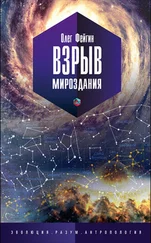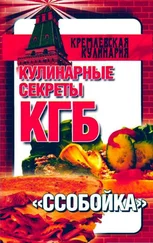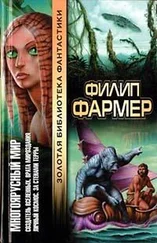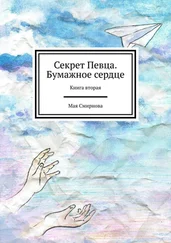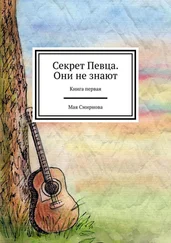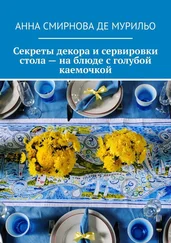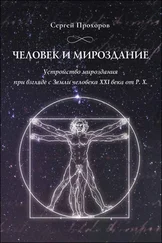По мнению Сеченова, именно с позиции физиологии — науки о жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей— клеток, органов, функциональных систем возможно познание глубин человеческой психики. Главное доказательство, приводимое им, сводилось к следующему: раз между физиологическими и психическими процессами не усматривается четкой границы, то не существует различия между двумя явлениями и по сути. По этому поводу к. м. н. И. В. Князькин и д. м. н. А. Т. Марьянович в комментариях к книге «Главные труды Сеченова» (2004) пишут: «Между двумя классами явлений (в том числе явлениями физиологическими и психологическими) может и не быть четкой границы, но это совсем не означает тождества самих явлений».
Сеченов не поддерживал версию многих философов и психологов о том, что ни один орган человека, в том числе и его мозг, сознанием не обладают, то есть, что человек = тело + душа.
Академик Павлов Иван Петрович(1849–1936) , российский физиолог, продолжая идеи Сеченова, строил свое учение о высшей нервной деятельности на основе гипотезы о том, что в основе психической деятельности лежат материальные физиологические процессы, происходящие в коре больших полушарий и подкорковых центрах головного мозга. Он, как и Сеченов, полагал, что мышление есть продукт деятельности мозга.
С точки зрения материализма, писал оппонент Сеченова в «Задачах психологии» профессор Кавелин К. Д. (1872), психические процессы — это «нервный или головной рефлекс, который не предполагает ни особой психической среды, ни участие воли и совершается механически… Как бы много ни было сделано наукою… никогда не удастся доказать, что вся психическая жизнь сводится к одним рефлексам». Существует множество явлений, которые не могут быть объяснены иначе, как собственною, свободною инициативою души. «Несмотря на то, что в мозгу и нервах совершаются психические явления, эти предметы, сами по себе, как физические и материальные, не одно и то же с психической жизнью, которой они служат подкладкой. Этот вывод, бросающийся в глаза, не обратил на себя… должного внимания реалистов. Усиливаясь доказать, что психические явления не что иное, как необходимое роковое последствие материальных условий и фактов, реалисты, сами того не замечая, делают прыжок из материального мира в психический, недоступный внешним чувствам и потому закрытый для их исследований. Если бы даже все психические явления имели единственною причиною материальные изменения в мозгу и нервах, и первые соответствовали последним, как звуки рояля ударам по клавишам, то все же надобно было бы признать, что существуют два рода явлений: одни материального свойства, другие — психические; узнать и определить их взаимные отношения можно не иначе, как зная те и другие и сравнивая их между собою; а путем реальных исследований мы можем знать только один ряд явлений, именно материальные факты; другой же ряд, — соответствующие им явления психические — остается недоступным для реального исследования, вследствие чего, как бы мы глубоко ни изучали физиологию и патологию мозговой и нервной системы, мы бы не только не узнали, но и не подозревали бы происходящих в ней психических явлений, если бы они не были доступны другим путем, — посредством психического наблюдения. <���…>
Телесные действия, выполняемые посредством нервов, движения по решениям души, называются произвольными… Так или иначе все-таки первичная причина произвольного движения заключается в способности души направлять деятельность нерва. <���…>
Рядом с такими, несомненно, произвольными движениями, мы выполняем множество других, не только непроизвольно, но даже вопреки решениям души… Конвульсии, судороги и т. п. приводят наши члены в движения непроизвольные, которые мы осознаем, но которых остановить не можем.
Действия произвольные и непроизвольные прямо противоположны друг другу; тогда как первые мы исполняем вследствие решения души и они, стало быть, вызываются психическим деятелем, вторые, наоборот, выполняются автоматически, без всякого участия души, нередко вопреки ее решениям, вследствие одних внешних, материальных возбуждений и причин. <���…> За очень немногими исключениями, все непроизвольные движения и действия были сначала произвольными и только вследствие более или менее долгого в них упражнения обратились в привычку, и вследствие лишь того могут исполняться автоматически, непроизвольно и даже бессознательно [подсознательно]. Разлагая сложные произвольные действия на их составные части, мы уже замечаем в них присутствие движений непроизвольных, которые вначале были произвольными. Никто, несмотря на прирожденный талант, не может сделаться художником, не овладев сперва техникой искусства; техника же, между прочим, именно и состоит в умении выполнять быстро и отчетливо, и притом по привычке не думая, бесчисленное множество движений, необходимых для возможно совершенного воспроизведения художественного образа, звука и т. п. Если бы в каждое мелочное движение, при беспрестанных его повторениях, вносились и сознание и воля, то человек не мог бы выполнить ни одного сколько-нибудь сложного и быстрого действия; оно потому и возможно, что входящие в его состав отдельные движения выполняются непроизвольно, по привычке; а чтобы приобрести такой навык, необходимо выучиться этим движениям, то есть бесчисленное множество раз проделать их с намерением и сознательно. Внимательно следя за постепенным развитием человека с младенчества, нетрудно заметить, что его речь, физиономия и манеры образуются из бесчисленного множества отдельных, сначала произвольных движений, которые мало-помалу обратились в непроизвольные и бессознательные [подсознательные]; потому-то мы и узнаем по ним, как по признакам, психические свойства и нравственную биографию человека. <���…> Но в то же время непроизвольные действия так целесообразны, носят на себе несомненную печать психического происхождения, наконец, они до того кажутся рассчитанными, обдуманными, предумышленными, что невольно возбуждается сомнение, не следует ли отнести и их к явлениям психическим, так как нет внешнего мерила для различения их от действий произвольных. <���…> Никакого особого своего содержания произвольная деятельность и не имеет и иметь не может, точно так же, как нет и не может быть чистой, безусловной произвольности, или так называемой безусловной воли. Свободный почин души — единственная черта, которою произвольная деятельность отличается от других явлений — вполне обусловливается наличными в душе мыслями, понятиями, представлениями, как непроизвольная деятельность обусловлена вызывающими ее невольными побуждениями и толчками. То, что не содержится в душе в виде мысли, представления, понятия, не может, ни в каком случае, быть обращено произвольным актом души в мотив деятельности. Этого мало. В развитии и действиях своих, свободный почин души ограничен ее привычками, прирожденными наклонностями, способностями, свойствами и тому подобными положительными данными. Переходя в объективный или реальный мир, произвольная деятельность ограничена его законами, с которыми должна сообразоваться и которых ни отвергнуть, ни переступить не может. <���…>
Читать дальше