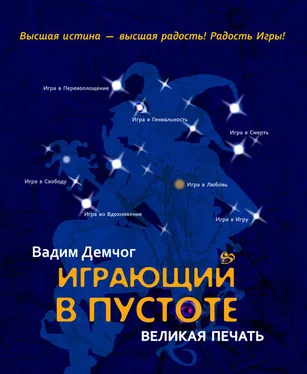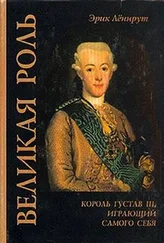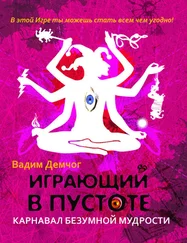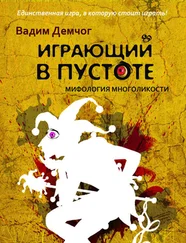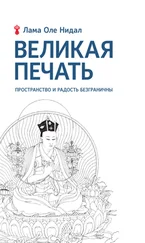Парадокс времени – второе «па» великого делания
Довольно запутанная танцевальная фигура, но ее тоже важно разучить. Дело в том, что время пронизывает все понятия и вместе со словом является ключом к Театру Реальности вообще. Почему? Потому что вслед за Эйнштейном, заявившим что «Вселенная – это не прялка», а также после открытий Стивена Хокинга и Роджера Пенроуза [24]время начинает играть крайне важную роль в нашей голографической модели мозга, где прошлое, настоящее и будущее взаимодействовуют друг с другом не в линейной последовательности, а в одно и то же мгновение, прямо «в сейчас», за рамками себя-времени вообще! Французский физик XX века Луи де Бройль говорит об этом так: «Все то, что каждый из нас воспринимает как прошлое, настоящее и будущее, в пространстве-времени оказывается слитым воедино…» [25]И что же из всего этого мы можем извлечь полезного? Итак…
1. На уровне роли время линейно , оно действенно, активно!
2. На уровне актера – нелинейно , это творческая потенция (не то, что есть, а то, что может быть!).
3. На уровне зрителя его вообще нет, оно пусто! Именно поэтому говорится, что образное мышление разворачивает себя в сфере, вне пространства и времени.
Одним словом, в своей истинной природе время – это многоплоскостная метафора! Здесь время сжимается в некое вечное сейчас ! То есть «вся Вечность содержится в каждой временной точке, так что все время есть Настоящее в Вечности . <���…> Это то, что называется „nunc stans“ – Вечным Моментом , охватывающим все времена и не уничтожая ни одного из них» [26]. Получается, что к этой многоплоскостной метафоре не подступиться, не мифологизируя ее, то есть не создавая некую игру, в которой, опираясь на идею пустоты, времени без времени (что не имеет никакого отношения к линейности и чему чужда идея конца, смерти), не возник бы некий танцующий архетипический образ. Время – это сфера постоянного самоосвобождения и самовозрождения , сфера Игры ! Еще раз: время – это трюк, или многоплоскостная игровая метафора, и в ней, и с ней можно только играть ! То, что может произойти на уровне актера (как творческая потенция), уже происходит на уровне роли (как реальность), а на уровне зрителя все было, есть и будет пустым, то есть никогда не происходило и не будет происходить. Это и есть миф – одновременное тотальное переживание реальности!
И как же все это использовать?
Отпустив все и оставаясь при этом в своей обычной форме, мы принимаем три света от Повелителя Игр , используя Дыхание Мифа, или динамичное дыхание Сверхмарионетки [27]. В итоге наше тело и мир вокруг нас растворяются в этих трех световых измерениях и не остается ничего кроме них. То есть, во-первых – все пусто; во-вторых – все пульсирует нелинейной творческой потенцией; и, в-третьих, – проявляется в линейном танце весело совокупляющихся информационно-квантовых потоков. Так любое явление, любая эмоция, любая форма возникают, играют, достигают пика своего развития и, отыграв свое, снова исчезают или «вытесняются» в другие проявления: мысль, жест, эмоцию, слово и т. д. и т. п. И так игровое проявление пространства перестает быть личностным , то есть присвоенным , или лучше сказать – загрязненным ! И это очень важно подчеркнуть: так игровое проявление пространства перестает быть загрязненным, плоским, ограниченным!
Рассмотреть картографию тотального времени можно также на примере трех великих терминов К. С. Станиславского: задачи , сверхзадачи и сверх-сверхзадачи .
Игра в задачи, сверхзадачи и сверх-сверхзадачи
В 1923 году Сергей Эйзенштейн, в те годы еще молодой театральный режиссер, в статье «Монтаж аttракционов» излагает свою программную концепцию сущности художественного воздействия театрального спектакля на зрителя. Она сводится к присутствию в спектакле определенным образом организованных элементов, аттракционов , которые подвергают зрителя «чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего» [28]. И, несмотря на то что Эйзенштейн имел в виду совершенно другое, мне нравится использовать это довольно удачное слово как стержень, на который нанизывается все богатство изысканий другого гиганта, великого новатора, Константина Сергеевича Станиславского, чьи модели, в свою очередь, заимствованы из восточной философии и методологии йоги, из книг таких индийских мастеров, как Рамачарака и Вивекананда [29].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу